Кепка

Мы жили тогда в коммунальной квартире шестиэтажного дома на Воронцовской улице. Иногда я приезжаю к этому дому и в сумерках подолгу смотрю на окна нашей бывшей комнаты на четвёртом этаже, на почти не изменившийся подъезд… Внутрь не войти – все подъезды теперь запирают на код. Да и что мне делать внутри? Там давно живут чужие люди, а ни мамы, ни отца, ни Светы, моей старшей сестры, уже нет в живых…
Это было в начале пятидесятых. Наверное, в пятьдесят третьем, весной или осенью. Скорее всего, осенью, и значит, мне было четыре с половиной года. Если бы меньше, вряд ли бы я запомнила всё так отчётливо.
Мы ждали отца с работы. Светка помогала маме накрывать на стол, по длинному полутёмному коридору тащила из кухни кастрюлю с борщом, потом – сковороду с жареной картошкой, сердито скворчащей из-за того, что её приплюснули тяжёлой крышкой. Мама доставала из буфета тарелки и ложки. Я как всегда путалась под ногами и всем мешала. Раздалось два звонка – к нам.
– Оля, открой ему, – недовольно сказала мама. – Опять он ключ не взял…
Приплясывая и напевая: «Па-пи-но, па-пи-но…», я побежала к двери. Почему-то тогда я звала папу как бы на итальянский манер – «папино». Может быть, из-за сказки про Буратино, которую он читал мне по вечерам. Я влезла на табурет, специально поставленный для меня у двери, и повернула колёсико замка. Отставила табурет и приготовилась с воплем «Папино!» прыгнуть к отцу на шею. А он бы, как всегда, со словами «Олюшка, дочушка моя!..» прижал бы меня к своей щеке, приятно покалывающей холодом и щетинкой, и бережно поставил на пол. Потом снял бы и повесил плащ, бросил кепку на стоящий под вешалкой сундук соседки бабы Зины. Я бы ухватилась за его руку и, размахивая ею, громко и весело топая, повела бы в комнату… «Вася, опять ты ключ забыл!» – попрекнула бы мама. А он, глядя на нас счастливыми глазами, отозвался бы: «Так вы же дома…»
Вошёл незнакомый дядька. В руках он мял кепку – точно такую же, как у папы. Кажется, такие кепки в мелкую серую полоску носил тогда каждый второй мужчина. Таким же, как у отца, привычным жестом он бросил кепку на сундук бабы Зины. На кого-то он был очень похож: голубые глаза в коротких и очень густых чёрных ресницах… Ой, совсем как у Светки!..
Подумав, я поздоровалась:
– Здрасьте!
Мужчина всматривался в меня и молчал. Наконец, спросил задыхающимся голосом:
– Люба… где?..
– Это моя мама, – важно сказала я, – а папа сейчас придёт.
– А Светлана?
– Это моя старшая сестра. Она в четвёртом классе.
Мужчина не сводил с меня изумлённых, почти испуганных глаз. Я сочла нужным представиться: «А я – Оля» и завопила:
– Мама! Света!
Мама уже шла по коридору. Я обернулась. Теперь она стояла как вкопанная, над её головой веером расходились тусклые серебряные лучи. Я догадалась, что это спицы соседского велосипеда, подвешенного на крюк на стене. Я побежала к маме и споткнулась об её скользящий поверх меня, невидящий взгляд. Хлопнула дверь, раздались гулкие, отдающиеся эхом торопливые шаги бегущего вниз по лестнице странного гостя.
– Серёжа! – закричала мама и, схватив с сундука кепку, бросилась вслед за дядькой.
– Серёжа! Серёжа! – слышался её удаляющийся, отчаянный крик.
Мы со Светкой сидели на сундуке. Я ревела. Мне казалось, что чужой дядька, как Крысолов, увёл маму навсегда. Особенно страшило то, что у дядьки отцовская кепка – именно ею он заманил маму.
Головные уборы почему-то занимали важно место в моих горячечных снах. Я часто болела и бредила всегда одинаково. Позже сестра, ставшая врачом, объяснит мне, что бред каждого человека неизменен и строго индивидуален, почти как отпечатки пальцев. Светке, например, в бреду чудилось, что открывается дверца старинного, тёмного до черноты шкафа, стоявшего напротив нашей кровати, и из него медленно и тихо выходят люди. Они идут, опустив глаза, молча, бесконечно, один за другим, и это почему-то невыносимо жутко. А мне не раз снилось, будто я бегаю по нашей Воронцовской улице, необычайно многолюдной и шумной, замусоренной фантиками и обрывками газет, как на первомайские или ноябрьские праздники, когда народ возвращается из центра после демонстрации. Я ищу внезапно исчезнувших родителей и вижу, что абсолютно все мужчины в одинаковых серых, как у отца, кепках, но папы среди них нет! Тогда я подбегаю к какой-то женщине и дрожащим голосом, но очень вежливо спрашиваю:
– Извините, пожалуйста, вы не видели мою маму? Она в таком салатовом берете…
– А я тоже в салатовом берете, – притворно улыбаясь жирно накрашенными губами, говорит тётка и хищным движением пытается схватить меня за руку. Я уворачиваюсь и с ужасом понимаю, что на ней действительно мамин берет и вообще она чем-то неуловимо похожа на маму: примерно такого же роста, в таком же зелёном приталенном пальто с узеньким каракулевым воротником, но это не она, не она!..
Я рыдала, а Светка пыталась меня успокоить:
– Олька, дура… мама вернётся, конечно, вернётся… и папа сейчас придёт, вот уже пришёл… он её во дворе, ну, на улице… поймает и приведёт…
Однако я чувствовала в голосе сестры неуверенность и плакала ещё горше. Вдруг в замочной скважине незапертой двери вхолостую крутанулся ключ, и вошёл наш папа.
– Девчонки, вы чего?
Кепку он против обыкновения повесил на вешалку, потому что бабы-Зинин сундук был занят нами. Пока он быстро снимал плащ, мы оторопело глядели на него: я – зарёванными, а Светка – полными слёз глазами. Наконец, обе бросились к нему, и Светка, уткнувшись в папино плечо, уже не сдерживаясь, расплакалась. Я же схватила папу за руку и, немедленно успокоившись, начала сбивчиво рассказывать про дядьку и кепку.
Вошла мама. Сжимая в руках кепку, опустилась на сундук.
– Любаша, что такое?.. – растерянно спросил отец.
Мама молча уткнулась в кепку лицом. Плечи её вздрагивали.
Мы в страхе жались к отцу. Мама прерывисто вздохнула, подняла голову и, не глядя на нас, сказала:
– Потом, Вася… Идёмте ужинать.
Ночью я слышала из-за ширмы шёпот родителей:
– Да вернётся он, Люба…
– Вася, ты пойми… ведь он Светланку ни разу не видел… я писала на фронт… а теперь, видишь… как нарочно… Олюшка вышла, а она нет…
– Любаша, милая, найдём… человек – не иголка…
Не знаю, слышала ли этот разговор Света и поняла ли тогда, кто был незнакомец. Я не поняла ничего и вскоре забыла. И даже когда я пробегала мимо сидящей на лавочке у подъезда бабы Зины, а она, кивая мне вслед и вздыхая, говорила другим старухам: «Эта – вылитая мать, а старшая-то в Сергея…», даже тогда я не задумывалась, кто такой Сергей, и никак не связывала свою сестру с маминым отчаянным криком «Серёжа!», со странным гостем и его кепкой, упрятанной мамой в чемодан, что хранился в коридоре на антресолях вместе с лыжами и другими редко доставаемыми вещами.
По-видимому, сестра знала всё. Лет через шесть-семь после того случая, вернувшись из школы, я услышала, как Светка спорит с отцом.
– Дочь, пойми, ведь это всё, что от него осталось – отчество и фамилия… и ты должна их носить…
– Фамилию я всё равно поменяю, когда замуж выйду! – запальчиво отвечала Светка.
Я, замерев, подслушивала под дверью.
– Тем более если только отчество… – с запинкой говорил отец. – Человек погиб на фронте, и наш долг…
– Ты тоже был на фронте!
– Да, но я отделался ранением, а он попал в самую мясорубку…
– Он не погиб! Он приходил, я помню! И убежал как трус…
– Доченька, это был не он! Мама обозналась! Вы же получили «похоронку»… И мы искали с ней… Наверно, это был мамин одноклассник, Сергей вроде похож на одного… ухаживал за мамой до войны… а тут увидел вас с Олей и…
– Но я никогда его не видела! Ты – мой отец! Или ты отказываешься от меня? – я услышала, как Светка всхлипнула.
– Ну что ты, что ты! Ты же моя любимая старшая доченька!..
Тут скрипнула бабы-Зинина дверь, и я быстро шагнула в комнату. Сестра и отец сразу замолчали. Я ничего не стала спрашивать ни у них, ни у мамы, потому что в первый – и на моё счастье последний раз в жизни – взревновала папу к сестре: «Это я любимая дочь, а не она!»
Месяца через два после подслушанного разговора, когда я готовила уроки за нашим единственным, одновременно обеденным и письменным столом, сестра пришла домой нарядная, в недавно пошитом синем крепдешиновом платье, с как-то по-особенному уложенными косами и молча положила передо мной раскрытый паспорт.
– Акентьева Светлана Васильевна, – прочитала я вслух и заносчиво добавила:
– Ну и что? Подумаешь, и у меня такой скоро будет!
Света так же молча взяла со стола паспорт и бережно положила в буфет на полочку рядом с папиными медалями и партбилетом.
Когда мы вышли замуж – сначала сестра, потом я, – Светлана осталась Акентьевой, а я взяла фамилию мужа. Я так и не спросила ни сестру, ни родителей о госте, оставившем кепку на сундуке бабы Зины. А теперь, когда никого из них нет на свете, я всё чаще вспоминаю пятидесятые годы, обычную, как у каждого второго мужчины, кепку в мелкую серую полоску, гулкое эхо в нашем подъезде и крик мамы:
– Серёжа!
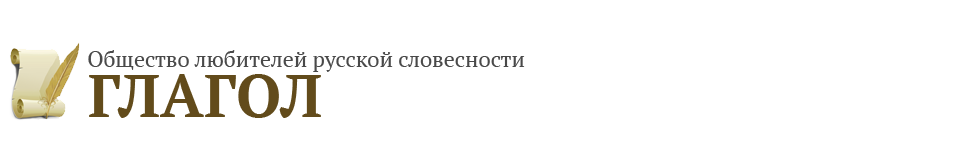

Война ломала судьбы, обрывала жизни. . . Но девочкам повезло с отцом, и излишне говорить, как это важно! Василий стал настоящим отцом не только для своей родной дочери, но и для приемной. В рассказе это мудрый, тонкий, деликатный человек, любящий свою жену и детей. который даже мысли не допускает, чтобы кого-то из них ранить словом или поступком. Вот такими и должны быть отцы. Таких героев очень не хватает в наши дни. Спасибо автору.