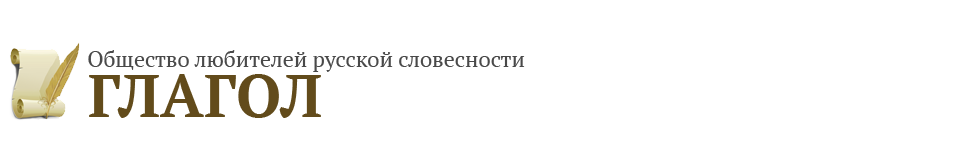Александр Лацис. Из-за чего погибали пушкинисты?

Тревожных предвестников не было: ни шельмования в печати, ни заседания с публичной проработкой. Молодого, несомненно одарённого учёного на пустынной площади, на одной из центральных площадей Ленинграда, сбила насмерть машина. Много лет спустя в московском музее Пушкина мне поведали изустное предание. Оно гласило: «Машина за ним гонялась, как за мухой».
Дорожное происшествие имело место в начале 1937 года. Казалось бы, к чему такие сложности? Не проще ли доставить учёного куда надо, на Литейный проспект? Позвольте предположить, что суть дела до того деликатная, что обычные способы были чем-то неудобны, не годились. Учёного звали Сергей Гессен. Он успел зарекомендовать себя статьями о декабристах, а также о Десятой, то есть об утраченной, зашифрованной и сожжённой главе «Евгения Онегина». Его труды не были изъяты. Появился неформальный, сердечный некролог. Имя продолжало упоминаться.
Словом, полностью соблюдался тот декорум, который положен по графе «несчастный случай». Можно прийти к мысли, что так оно и было.
Прошло без малого двенадцать лет. В поезд Москва-Ленинград сел очень известный пушкинист, обычно его именуют Модзалевский-младший, Модзалевский-сын. Лев Борисович до Ленинграда не доехал – выпал из поезда, разбился насмерть. Оба погибших ленинградских пушкиниста были, разумеется, между собою знакомы. Мало сказать «знакомы». Они ещё и соавторы. Под их именами – С.Гессен и Л.Модзалевский – выпущена книжка. «Разговоры Пушкина».
Так из-за чего погибли пушкинисты? Из-за разговоров Пушкина?
Или – это куда вероятнее – из-за разговоров о Пушкине?
Так или иначе, но в годы, когда государство продолжало страдать манией преследования, это сочетание не могло не восприниматься как данный для острастки наглядный урок. Каждому пушкинисту следовало самому сообразить, что и ему может упасть кирпич на голову.
Главной задачей стало не сказать лишнего. А вот что оно такое – «лишнее»? Чего именно следует избегать? На всякий случай – всего.
Долгое время я не решался в разговорах со знакомыми мне пушкинистами спрашивать – по какой причине вокруг жизни и творчества поэта возник зловещий запретный круг, как случилось, что Пушкин находится на запретном режиме, на положении арестанта, осуждённого чуть ли не на вечный срок? Если ты начал о чём-либо догадываться, то тем более помалкивай. Вот девиз, под которым прошла жизнь большинства моих современников. Тем временем биография Пушкина продолжала оставаться в крайне запутанном виде. Перемешивание фактов с легендами приводило к единственно остающемуся выводу: Пушкин был, видите ли, «поэт». В обывательском представлении об этом слове. Он был «поэт», значит человек вспыльчивый, порывистый, рассеянный, противоречивый, попросту взбалмошный.
Ни в коем случае не политический деятель, не сколько-нибудь последовательный мыслитель, а «поэт», да и только. Когда какая-то загадка долгое время не поддаётся решению, надо попробовать поставить рядом с ней ещё одну. Может оказаться, что они сами решают друг друга. Труды пушкинистов не давали и до сих пор не дают сколько-нибудь ясного представления о Десятой главе «Онегина». И, как нарочно, а может, и впрямь – нарочно, дежурные пушкинисты печатают заведомую бессмыслицу, вроде того, что таковой главы никогда не было! Стало быть, не эта ли тема – в числе сугубых секретов?
Что ж, оно, пожалуй, понятно. Если Десятая глава – насквозь сатирическая, то она мешает укреплять культ государства. А у нас благо государства – высший закон. Если Модзалевский-младший вместе с Гессеном или вслед за Гессе-ном, открыл истинный ключ к Десятой главе, то он обладал достаточно проницательным умом. Много лет спустя, кажется, в 1982 году, беседую с одним из лучших пушкинистов, с Сергеем Михайловичем Бонди.
– А что, Модзалевский-младший, он был очень умный?
– Дурак. Совсем дурак. Мы про него так и говорили: у него вместо головы – картотека его отца.
– А что вы говорили про его отца?
– А про его отца мы просто говорили: у него вместо головы – картотека. С младшим, – продолжает Бонди, – был у меня такой случай. Пришёл он ко мне, жалуется: «Почему Леонид Гроссман про меня говорит, что я дурак? Не такой уж я дурак…» И тут мой гость увидел на столе недавно вышедший третий том писем Пушкина. Тот том, где его, Льва Борисовича, обширные примечания. «Очень, – говорит, – интересно. Сейчас глянем на ваши замечания». И берёт том в руки. Я подскочил, кричу: «Нельзя!», стараюсь отнять. А он не отдаёт. Потанцевали мы с ним по комнате, держась за книгу. В конце концов я победил, книгу вытащил. Я не был сильнее. Но я знал, что мне невозможно уступать. Из-за моих пометок. А были они такие: «Он ничего не понял!», «Опять ничего не понял!», «Идиот!». Модзалевский-младший не предполагал подобных выражений, понял наши с ним танцы совершенно иначе и обиженно сказал: «Напрасно вы мне не доверяете. Я бы не разболтал ваших секретов».
Далее я спрашивал у Бонди, какого мнения он о Л.Гроссмане, о Д.Благом, о Б.В.Томашевском.
– Леонид Гроссман был настоящий интеллигент. Человек высокой культуры. Прекрасно знал французский. Богатая эрудиция. Неплохо писал стихи. Но дурак. Боже мой, какой дурак!
Хуже всего отзывался Бонди о Благом. И только Томашевский был удостоен похвалы.
– Умница! Он был умнее нас всех, вместе взятых! Один недостаток: не обладал развитым поэтическим слухом.
Возможно, Бонди запомнил и учёл, что в одной из предыдущих бесед я упомянул, что учился у Томашевского. Позднее, когда я кому-то из сотрудников московского музея Пушкина излагал отзыв Бонди, в ответ я услышал:
– Что вы нам рассказываете? Уж мы-то знаем, как Бонди отзывается о Томашевском!
В конце концов я понял, что не скоро подневольные пушкинисты получат возможность взяться за решение тайны Десятой главы. Она оказалась не такой уж сложной, искусственно замудренной. Текст спокойней, чем можно было ожидать. Иначе и быть не могло. «Славная хроника» – так записал в дневнике свои впечатления от услышанного П.А. Вяземский.
И впрямь – «славная хроника». Какая ж тут угроза для наших властей? Нету там ничего смертельно опасного.
История поиска ключа к Десятой главе сама по себе любопытна, но это другая тема, не она сопричастна с судьбой погибших пушкинистов.
Учёных можно поделить на два подвида. Одни – по преимуществу рассуждатели, другие – фактовики.
Бытовало такое присловье: Б.Модзалевский в Ленинграде знает о Пушкине всё, М.Цявловский в Москве знает всё остальное.
То же самое соотношение сил нетрудно выразить иначе: Б.Модзалевский (то есть старший) составил картотеку. В неё он вносил сведения о тех, кто жил в России в пушкинские времена.
М.Цявловский, со своей стороны, подготовил всеобъемлющую летопись жизни Пушкина. Личные архивы обоих разыскателей хранятся в Ленинграде, в Пушкинском доме. Не пытайтесь туда обратиться. Вам скажут: «Архивы не разобраны». Возможно, так оно и есть. Не успели. Со времени кончины Модзалевского-старшего прошло всего-навсего шестьдесят лет.
Модзалевский-отец был непревзойдённым знатоком генеалогии. Про девятнадцатый век он знал всё. Кто от кого родился по сведениям, взятым из документов. И кто настоящий, фактический родитель.
Недавно в ежегоднике рукописного отдела Пушкинского дома воспроизведено письмо М.П.Алексеева к Б.Л.Модзалевскому. В 1924 году будущий академик пишет из Одессы в Ленинград. Он только что узнал потрясающую новость. Мария Николаевна Раевская, в замужестве Волконская, поехала к декабристам в Сибирь не из-за мужа, а из-за друга. Муж, генерал С.Г.Волконский, послужил официальным предлогом.
Если Модзалевский ответил Алексееву, то в письме или при встрече он, вероятно, сказал: «Экая новость! Это всему миру давно известно, и только мы стоим в позе страуса!»
В действительности отцом детей Марии Николаевны был Александр Васильевич Поджио. Но, дабы дети не считались незаконнорожденными, их записали на фамилию мужа.
Когда декабристы возвратились из Сибири на родину, Поджио не отъехал от фактически сложившейся семьи и стал именоваться «управляющим имением».
Годы шли, наступило начало двадцатого века. Потомок Волконской уехал в эмиграцию, в Италию. Там он вернул себе фамилию своих истинных предков. Его похоронили в семейной усыпальнице итальянской ветви рода Поджио.
Эти уточнения не умаляют подвига Волконской, а также и Трубецкой. Они отправились в каторжную Сибирь, повинуясь не супружескому долгу, а во имя верности любви.
Повторяю: Модзалевский-старший по части генеалогии знал всё. Модзалевский-младший тоже знал немало. Проницательный С.Гессен мог к нему обратиться за какой-нибудь справкой. Но если не представляла реальной угрозы для существования государства Десятая глава «Онегина», то разве рухнуло бы оно из-за чьей-то карточки в картотеке Модзалевского?
Собственное имение братьев Поджио называлось Грамоклея. Довольно длинная речка того же названия начинается от южной оконечности Полтавской губернии и течёт на юго-запад, по Елизаветинскому уезду Херсонской губернии. Несколько имений, деревень, колоний носили одно и то же название Грамоклея.
Те, кто читал всё о Пушкине, скажут: «Знакомое слово. Где-то встречалось. Не в записках ли Россет-Смирновой?»
Так оно и есть. Иголочка памяти пушкинистов работает профессионально. Подвернётся слово «Грамоклея». За ним тут же тянется мнемоническая цепочка: «Поджио – Волконская – Пушкин».
И ещё раз – Грамоклея. И другая цепочка: «Александра Россет-Смирнова – Пушкин». У каждого пушкиниста в сознании или где-то поглубже, в подсознании, множество подобных цепочек, работающих рефлекторно, на высоких скоростях.
Воспользуемся девизом Монтеня – «Que sais-je?» – «Что знаю я?» И вернёмся к эффектной фразе «гонялись, как за мухой».
Каков её юридический вес? Ноль целых, ноль десятых.
С не меньшим основанием можно было сказать, что пешеход упорно стремился под колёса.
Если рассуждать непредвзято, вот что могло произойти. Стараясь избежать наезда, шофёр повернул было в сторону. Но одновременно в ту же сторону метнулся пешеход. Мгновение – и снова одновременно – пешеход и водитель бросились в другую сторону. Так произошло гибельное столкновение.
Ни к какому периоду не следует навешивать напраслин, вроде тех, которыми изобилует сочинение С.Мельгунова «Красный террор в России», некритически освоенное А.Солженицыным.
Так что же мы узнали? Как нередко приговаривал Пушкин, «ничего, иль очень мало».
Предполагать, что за несчастными случаями могут скрываться преступления, мы вправе. При условии, что сумеем, хотя бы приблизительно, установить мотив.
Тупиковое положение раньше многих ощутил и обрисовал Иван Сергеевич Тургенев. Затем, ещё подробнее, С.А.Соболевский. Опаснее любого цензурного ведомства – цензура нравственных норм, ханжеская цензура общего мнения. Оно не позволит друзьям Пушкина, его современникам выйти за рамки обыденных представлений о правилах приличия. Мемуаристы не сумеют, не смогут рассказать о Пушкине всё, что им известно.
К сожалению, И.С.Тургенев остаётся прав. Цензура предрассудков никогда не допустит, чтобы облик Пушкина в чём-то отклонялся от средних норм. Его поведение обязано соответствовать тому уровню морали, который общепринят в такое-то десятилетие данного века.
Нормы поведения изменчивы, как всё на свете, и, как всё на свете, подвержены влиянию моды. Особенно заметны колебания по части допустимости бранных выражений. Однако на словарь Пушкина не распространились нынешние послабления. Далеко не самые страшные обороты, такие, как бордель, блядун, выблядок, по-прежнему заменяют многоточиями. Но вот что уморительно: не везде. То, что в одних томах Большого академического издания можно, в других – ни в коем случае не печатают.
А ещё нельзя позволять Пушкину, чтобы он признавался в том, что упал в обморок. В его письме, написанном по-французски, прямо сказано: «allaitjusqu’ á la défaillance».
Это означает «дошло до обморока».
Как извернулись перепуганные пушкинисты? При переводе подменили «обморок» на «изнеможение»!
Знавший Пушкина А.В.Никитенко упомянул о том, что было у поэта постоянное дрожание левого угла верхней губы.
«Вот поэт Пушкин. Видев его хоть раз живого, вы тотчас признаете его проницательные глаза и рот, которому недостаёт только беспрестанного вздрагивания: этот портрет писан Кипренским».
Никто из пушкинистов не взялся рассуждать про тик, или обморок, или близорукость. Разве что С.Гессен и Л.Модзалевский? Уж не коснулись ли они сих пагубных подробностей в неосторожном разговоре? Если так, то они повинны не в легкомыслии, а в сущем безумии…
Приведём отрывок из записок И.И.Пущина. Возможно, именно этот эпизод показал И.С.Тургеневу, как перо мемуариста пасует перед ханжескими условностями.
Время и место действия – Петербург, после окончания Пущиным и Пушкиным лицея, примерно 1817 или 1818 год.
«Между нами было и не без шалостей. Случалось, зайдёт он ко мне. Вместо: «Здравствуй», я его спрашиваю: «От неё ко мне или от меня к ней?» Уж и это надо вам объяснить, если пустился болтать.
В моем соседстве, на Мойке, жила Анжелика — прелесть полька!»
Фамилию Анжелики Пущин огласке не предаёт, и весь эпизод обрывает пушкинской стихотворной строкой: «На прочее – завеса». Намёк довольно очевидный. Значит, потом было прочее. Значит, у любовных встреч Пушкина было последствие. Появилось дитя любви, рождённое вне брака. Оглашать поимённо подобные тайны в девятнадцатом веке не полагалось.
Внебрачные дети теряли права дворянства, их не принимали в «приличных домах». Кроме того, они или их потомки, их родственники могли вчинить иск мемуаристу о возмещении убытков за диффамацию, то есть за разглашение порочащих сведений, хотя бы и справедливых. Вот почему пикантные сюжеты излагались туманно, нередко с переносом на выдуманные адреса или с переносом на тех, кто уехал за границу и не оставил корней в России.
Первые пушкинисты и их преемники, рассказывая об одесском периоде, приплетали имя Амалии Ризнич, не игравшей реальной роли в жизни Пушкина. Её имя служило псевдонимом для замены подлинных имён. Вынужденная сдержанность Ивана Ивановича Пущина была неизбежной, об этом и говорил И.С.Тургенев, на которого мы ссылались выше. После революции препоны, казалось бы, исчезли. Отпала проблема наследственных дворянских прав, исчез закон о диффамации. Ринувшись отыскивать «утаённую любовь», пушкинисты перебрали чуть ли не десяток версий, втягивали в обсуждение любые имена, вплоть до Марии Раевской, в замужестве Волконской.
Все эти легенды уводили прочь от простого решения. Упоминая в черновике вступления к «Полтаве» «утаённую любовь», Пушкин говорил о свободе.
Почему же не появилось ни одной версии, ни одной догадки относительно фамилии польки Анжелики, относительно судьбы внебрачного ребёнка? Почему об этом увлечении Пушкина – глухое молчание, словно воды в рот набрали?
Таких детей, выражаясь на французский лад – bâtard выражаясь по-русски – выблядков, по возможности скрывали, им сочиняли подложные метрики или их отдавали на воспитание в чужие семьи, и тайну рождения приёмыша хранили чужие люди.
Итак, было последствие. Что за дитя? Девочка или мальчик? Ничего не известно? Думаю, что известно. Послушаем Пушкина.
Под вечер, осенью ненастной
В далёких дева шла местах
И тайный плод любви несчастной
Держала в трепетных руках.
Дадут покров тебе чужие
И скажут: «Ты для нас чужой!»
Ты спросишь: «Где ж мои родные?»
И не найдёшь семьи родной.
Но что сказала я? Быть может.
Виновную ты встретишь мать.
Твой скорбный взор меня тревожит!
Возможно ль сына не узнать.
Повторяю сказанное Пушкиным со всей силой не придуманного, истинного чувства: возможно ль сына не узнать? Тут легко меня уличить в подтасовке, в натяжке. Эти стихи, «Романс», печатают под Пушкиным проставленной датой – «1814». Раз они написаны года за три до встречи с Анжеликой, то они не могут приниматься во внимание. Довод внушительный, только он имеет обратную силу. Дата «1814» для того и придумана Пушкиным, чтоб написанное им от всего сердца не послужило поводом для пересудов. Если приглядеться, то становится очевидным: нет ничего общего с уровнем детских стихов, судя по мастерству, стихи написаны не ранее 1819 года. В сентябре 1820 года Пушкин рассказывает о семье Раевских в письме к брату Льву. Речь идёт о сыне генерала Раевского, о Николае Николаевиче-младшем.
«Ты знаешь нашу тесную связь и важные услуги, для меня вечно незабвенные». К этим словам нет у пушкинистов ни малейшей попытки дать комментарий. Конечно, «важные услуги» можно сказать о чём угодно. Но «незабвенные»! Но – «тесная связь»! Это, я думаю, позволительно истолковать вполне определённо.
Друг Пушкина, Николай Николаевич Раевский-младший, вызвал к себе в Петербург надёжного человека, хлопотуна по всем делам семейства Раевских, француза Фурнье. Ему дано поручение: отвезти малютку в южные имения Раевских. На юге полковой священник исполнил, согласно пожеланию генерала, обряд, выписал метрическое свидетельство. Ребёнку присвоена фамилия матери. В роли крёстного отца выступил адъютант по имени Леонтий.
Адъютант генерала Раевского вам знаком, но не по имени, а по фамилии. Леонтий Васильевич Дубельт впоследствии стал правой рукой Бенкендорфа. Ему будет поручено возглавить посмертный осмотр бумаг Пушкина. За его сына выйдет замуж дочь Пушкина. Если Дубельт принял участие в крещении, то возможно, что младенцу было дано имя Леонтий. Далее француз Фурнье присматривал за воспитанием, и посему ребёнок неплохо выучил французский язык.
Нетрудно убедиться: именно так действовал Пушкин, когда вновь попал в подобное положение. Есть его письмо к князю П.А.Вяземскому, из Михайловского в Москву. Речь идёт о крепостной крестьянке, об Ольге Калашниковой. «Письмо вручит тебе очень милая и добрая девушка, которую один из моих друзей неосторожно обрюхатил. Полагаюсь на твоё человеколюбие и дружбу.
…При сём с отеческой нежностью прошу тебя позаботиться о будущем малютке, если то будет мальчик. Отсылать его в Воспитательный дом мне не хочется, а нельзя ли его покамест отдать в какую-нибудь деревню – хоть в Остафъево. Милый мой, мне совестно, ей-богу… но тут уж не до совести». Вяземский, в отличие от Раевского, помочь отказался. Калашникова вместе со своим отцом переехала на жительство в Болдино. Появился на свет мальчик, наречённый Павлом. Как Пушкин и опасался, ребёнок умер в раннем детстве.
О своей «брюхатой грамоте» Пушкин писал Вяземскому в 1826 году. Прошло два года. Бойкий журналист – его так и звали «Борька Фёдоров» – 6 мая 1828 года занёс в дневник услышанное от Пушкина: «У меня детей нет, а всё выблядки».
Значит, опять-таки подтверждается: когда Пушкин ещё не был женат, побочные, рождённые вне брака дети у него были, и не один. Прошло ещё два года. Пушкин обращается к Бенкендорфу, просит, чтобы его отпустили в поездку в Европу. Ему отвечают: «Нельзя». Он просится в Китай. Опять отвечают: «Нельзя». «Если Николай Раевский проследует в Полтаву, покорнейше прошу Ваше Высокопревосходительство дозволить мне его там навестить». Чего не хватает в этом письме? Пояснения. С чего вдруг – в Полтаву, и почему просьба условная, в зависимости от того, будет ли там Николай Раевский? Да и какая надобность повидаться с Николаем Николаевичем-младшим, с которым в недавние дни путешествия в Арзрум Пушкин две или три недели прожил в одной палатке? Пушкин в письме Бенкендорфу чего-то не договаривает. Потому что при Бенкендорфе находится Дубельт, для которого пояснений не требуется, ему всё понятно. Пушкин собирался навестить своего сына. Сын находится где-то недалеко от Полтавы, а где именно – Пушкин этого не знает и думает, что без Николая Раевского может не отыскать.
Возможно ль сына не узнать…
Однако и на эту просьбу последовал отказ.
Вся цепочка догадок выглядела бы весьма гадательной, если б не существовало многотомное документальное издание «Архив Раевских». Пять томов подготовил к печати и снабдил примечаниями Модзалевский-младший. Та часть писем, которая была написана по-французски, напечатана без перевода на русский язык.
Подобно Модзалевскому-старшему, младший тоже свободно владел французским языком. Он не мог не знать напечатанную в «Архиве» французскую часть переписки. Действие переносится в Крым. Посыльный отправляется из Кореиза (владение княгини Анны Голицыной) в Форос (недавнее приобретение Раевского-младшего. Другое название – Тессели). Княгиня Анна пишет (скорее всего – диктует) записочку к Николаю Николаевичу:
«А вам посылаю вашего Димбенского. Славный мальчик, но у него не всё ладно с ногами. И это ведёт к тому, что он мне не сможет пригодиться как секретарь».
Главная обязанность домашнего секретаря – вести французскую переписку. Значит, юноша необходимым уровнем знаний обладает.
Что ещё мы узнали? Фамилию. Димбенский или что-то в этом роде. На обороте имеется приписка, в ней повторяется та же фамилия несколько иначе: Дебинский.
Есть шутливое выражение, но не вовсе шуточное правило: когда предстоит выбор между двумя путями, предпочитайте третий.
1 мая 1834 года отослано из Петербурга письмо к Николаю Николаевичу Раевскому.
«Посылаю вам паспорт для вашего Дембинского и прошу вас возвратить мне тот паспорт, который был ему выдан с.-петербургским Генерал-Губернатором. По истечение же годичного срока пришлите мне и прилагаемый паспорт для перемены оного.
Счёт израсходованным деньгам Дембинского посылаю. Хотите заплатить, то пришлите, не хотите, то бог с вами.
Ваш друг душою и сердцем Л. Дубельт»
Упоминая о деньгах, Дубельт, очевидно, шутит. Сбор за выдачу годового паспорта взимался в размере 1 р. 45 коп.
Письмо Дубельта – внимательное, заботливое, оно в какой-то степени подкрепляет предположение о том, что Леонтий Дубельт – крёстный отец рождённого вне церковного брака сына Анжелики. А фамилия её, если считать, что Дубельт ничего не перепутал, – Дембинская.
Построить достаточно связную версию – это первая половина нашей задачи. Вторая половина – рассказать, как к той же самой версии при¬шли, не могли не прийти С.Гессен и Л.Модзалевский.
«Разговоры Пушкина» они начали готовить при жизни Модзалевско-го-старшего, по его замыслу, пользуясь его советами.
В будущий сборник была включена и запись Борьки Фёдорова, та, где приведено упоминание о приблудных детях поэта. Нетрудно представить, что составители сборника обменивались мнениями и не оставили в стороне рассказ Пущина о польке Анжелике. Модзалевский-старший, по всей вероятности, посоветовал заглянуть в «Архив Раевских». Остальные подробности сами собой подвёрстывались к сюжету.
Благодаря всё тому же «Архиву Раевских» выясняется, что Н.Н.Раевский женился в зрелом возрасте. В 1839 году ему – 38, а его невесте – 20. Анна Михайловна, урожденная Бороздина, так и не прилепилась душой к своему пожилому супругу. В 1843 году жена находилась в Крыму, муж – в воронежском имении. Внезапно развернулось мучительное заболевание. Оно длилось месяц. После кончины супруга прошёл ещё месяц. Прибыла хозяйка, известная своим крутым, весьма энергичным характером.
Управляющий имением представил письменный отчёт о ходе болезни, о лечении. Из этого доклада мы узнаём, что кто-то из сопровождающей хозяина обслуги читал умирающему французские книги. Сочтём это сообщение за косвенное известие о Дембинском. Далее о нём в «Архиве Раевских» сведений нет.
У Анны Михайловны – две кузины, урождённые Бороздины. Одна вышла замуж за декабриста Поджио – не за Александра, за его брата Иосифа. Другая – за декабриста Лихарева. Обе от мужей отреклись. И ни одной части доходов от имений не предоставили своим бывшим супругам.
Есть довольно распространённый тип женщин, которых мужчины сами по себе не интересуют. Ничто этих дам не привлекает – ни внешность, ни характер. Особый род тщеславия побуждает их собирать коллекцию людей известных, чем-либо примечательных.
Была ли Анна Михайловна и её родственницы посвящены в происхождение 25-летнего Дембинского? Не унаследовал ли потомок поэта некие особенные дарования?
Нет оснований утверждать, что подобное любопытство было присуще представительницам именно того, а не другого дворянского рода. Любая барыня, оказавшись брюхатой, должна была на время скрыться от общества, а затем отдать ребёнка в какую-нибудь не близко проживающую семью. Желательно, в непьющую, в надёжную. А какие семьи самые заботливые? Ответ известен…
Так у Дембинского мог появиться свой тайный сын. По отчеству Леонтьевич. Фамилия – той семьи, которая приютила младенца. Время рождения- где-то около 1845 года…
Скончался Модзалевский-старший. Вышли в свет «Разговоры Пушкина». Через год, в конце 1930-го, в Берлине – по-русски, в Париже – по-французски, появилось автобиографическое повествование «Моя жизнь», принадлежащее перу одного из самых знаменитых политических деятелей первой половины двадцатого века.
О родителях автора рассказано весьма кратко. Ни разу не упоминается фамилия отца. Девичья фамилия матери, хотя бы её имя – всё это остаётся неизвестным. Не указано – откуда она родом, не знаем и год её рождения.
Впрочем, в дальнейшем мы можем вычислить год рождения отца. Примерно 1846, полюс-минус единица.
Первая фамилия, которая попадается на глаза, – Дембовские. С этими соседями у отца какие-то дела. Часть земли у них купил, часть – арендовал.
В свой хутор, в Яновку, родители переехали из Грамоклеи. В Грамоклею отец прибыл откуда-то из Полтавской губернии.
А вот и его имя-отчество. Давыд Леонтьевич.
В доме Давыда Леонтьевича не говорят ни на иврите, ни на идиш.
Ежедневно, даже по субботам, за общий стол садится обедать механик, русский человек, Иван Васильевич. Мать тоже не соблюдает религиозные обычаи, по субботам не перестаёт работать.
По некоторым эпизодам судя, характер у Леонтьевича прямо-таки цыганский: жёсткий, резкий, высоко ценящий смелость, справедливость, независимость, неподчинение начальству.
Его сын во втором классе Одесского реального училища участвовал в выходке против учителя. На время исключили из школы. Когда вернулся в Яновку, домашние опасались отцовского гнева. По совету сестры мальчик поселился у приятеля. Отец обо всём узнал и сказал: «Молодец! Покажи, как ты свистел на директора. Вот так?» И отец положил два пальца в рот. Свистнул. И засмеялся.
– Не на директора. И я не свистел.
– Нет, нет, не спорь. Ты свистел на директора! Ты смелый парень!
А какая внешность у сына? Светло-голубые глаза. Вьющиеся волосы. Прямой нос. Только рот, пожалуй, великоват, немного выворочены толстые губы. Тут в нашем этюде появляется дуаль. Нельзя исключить возможность побочного решения. Несомненно, что был ребёнок у Анжелики. Вероятно, что его фамилия – Дембинский или Дембовский. Но в жизни Пушкина были и другие приключения. Две или три недели пропадал, путешествуя с цыганским табором. Ещё об одной цыганке рассказывали кишинёвские старожилы. Условно говоря, у Земфиры могла родиться дочь. Пушкин об этом не знал, да, судя по письму к Вяземскому, не очень и интересовался судьбой побочных дочерей.
Невозможно ни опровергнуть, ни полностью доказать, что Леонтьевич – из рода Анжелики. Но, на случай какого-то прокола, наготове запасная версия: Леонтьевич был сыном цыганки. Примерно так между собой спорили Гессен и Модзалевский после того, как в их руки попал первый том автобиографии «Моя жизнь». Разумеется, они напомнили друг другу, что необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Никому ни слова! Как водится, при этом каждый сделал исключение для одного человека, которому можно доверять «как самому себе». А тот – не делился секретом ни с кем, кроме, опять-таки, одного человека. Чем это кончилось? Внесудебной расправой.
Не будем делать большие глаза. Подобные способы не являются монополией государственных систем двадцатого века.
В Киеве 30 марта 1830 года на берегу Днепра было обнаружено мёртвое тело иностранца Фурнье. Ноги – на берегу, голова – в воде. Объявили, что покойный, по-видимому, внезапно потерял сознание, неудачно упал и захлебнулся. Незадолго перед тем местные власти потребовали от иностранца, чтобы он представил дополнительные документы на право проживания в Киеве.
В девятнадцатом веке, как и веком ранее и веком позднее, слово «документы» применялись во всем понятном значении: «деньги».
Иностранец оказался гордецом. Он заявил, что «документы» представлять не намерен. Да ещё и написал властям, чтобы его оставили в покое, а то он будет жаловаться. Не только в Москве, но и в Петербурге он человек известный, есть кому заступиться.
К петербургскому заступнику за всех, кто причастен к семейству Раевских, к Л.В.Дубельту, иностранец Виктор-Андре Фурнье обратиться не успел…
Почему пушкинисты не сумели перевести с французского слово «обморок»? Не знали такого слова? Или постеснялись, сочли, что оно, так сказать, снижает образ?
Да нет, всё знали, ничего не стеснялись, но сделали должные выводы из участи Гессена и Модзалевского.
Про обмороки – нельзя. Потому что внезапные беспричинные обмороки были у сына Давыда Леонтьевича, у Льва Давыдовича Троцкого. Об этом ещё в 1921 году в Нью-Йорке в брошюре «Л.Троцкий. Характеристика по личным воспоминаниям» рассказал Г.Зив.
Выше я приводил рассказ А.В.Никитенко о том, что в верхнем левом углу губы у Пушкина было постоянное трепетание. Добавлю, что именно по этой причине он держал в этом углу то карандаш, то перо, а то и просто прикрывал рукой бьющийся живчик.
Не знавшие его близко, видевшие мельком, городили чепуху, мол, Пушкин постоянно грызёт ногти. Пушкин не грыз ногти. Он придерживал свой тик.
Года два назад в ЦДЛ состоялся доклад одного из тех, кто получил кандидатскую степень за тему «Борьба с троцкизмом», вскоре защитил докторскую диссертацию по той же теме, а сейчас бодро выступает, сдвигая оценки туда и обратно. Так вот, выступил докладчик, говорил разное, а затем в зале поднялся человек и назвал себя: «Я – Саша Брянский. Саша Красный. Меня приняли в Союз писателей, когда мне было сто два года». Ему сказали: «Так вы поднимитесь на сцену». На что он ответил: «Я не буду подниматься. Мне сто четыре года, мне подниматься нелегко. Я скажу отсюда, и меня будет слышно. Во время гражданской войны я служил в том поезде, который был поездом Троцкого. Я о нём сейчас скажу. У него вот здесь (показывает на угол рта) был постоянный тик».
Это совпадение, до сих пор не отражённое в печати, я считаю решающим доводом. После него можно не обращать внимания на совпадения других наследственных признаков, таких, как подагра, желудочно-кишечные хлопоты, близорукость или внезапные беспричинные обмороки.
Неоспоримая прямая наследственность позволяет совершенно по-иному воспринять облик Троцкого, который так и говорил делегации евреев: «Скажите тем, кто вас послал, что я не еврей».
Его ответ не понимали и думали, что он хотел сказать – «я – большевик и потому у меня нет национальных пристрастий». Но он отвечал в прямом, в буквальном смысле, а мы в двадцатом веке утратили способность доверять тому, что слышим.
На родословной Троцкого пытались нажиться политические спекулянты и их прихвостни, литературные импотенты, бубнившие, что, мол, «всё зло от них пошло». Но не выйдет это. Лишь один из наркомов первого поколения считался иудеем, и тот оказался потомком Пушкина! Не только к Троцкому, но и к Пушкину можно отнести сказанное А.В.Луначарским: «В нём нет ни капли тщеславия, он совершенно не дорожит никакими титулами и никакой внешней властностью: ему бесконечно дорога, и в этом он честолюбив, его историческая роль!. «…Могучий ритм речи… замечательная складность, литературность фразы, богатство образов, жгучая ирония, парящий пафос, совершенно исключительная, поистине железная по своей ясности, логика». «Его статьи и книги представляют собой застывшую речь, – он лите-ратурен в своём ораторстве и оратор в своей литературности».
Послушаем самого Троцкого. «С ранних лет любовь к словам была неотъемлемой частью моего существа». «Хорошо написанная книга… казалась и продолжает казаться мне самым ценным и значительным продуктом человеческой культуры». «В тюрьме с книгой или пером в руках я переживал такие же часы высшего удовлетворения, как и на массовых собраниях революции». Троцкий не притворялся, не хитрил, когда говорил, что и в изгнании каждый день, проведённый им за письменным столом, был счастливым днём. Он оставался жизнерадостен, весел, с оптимизмом думал о будущих временах. Надёжный друг своих друзей, человек доброжелательный, разве что иной раз чересчур доверчивый, он прожил яркую, по-настоящему счастливую жизнь.
Пусть многопишущие обыватели отделываются штампами – «трагическая фигура», «неудачник», «проигравший». Если мерить человеческую жизнь умением радоваться счастливым дням, то его «победитель», не знавший в своей жизни ни одного спокойного дня, в любых обстоятельствах страдавший от комплекса не¬полноценности, от скорпионских, провокаторских укусов, непрерывно наносимых самому себе, всем приближённым, всей стране – вот он-то и остаётся в истории хроническим, неизлечимым, обречённым неудачником.
Духовное и физическое родство Пушкина и Троцкого помогает многое обдумать вновь. Не только Пушкин помогает понять всё человеческое в Троцком. Но и Троцкий помогает увидеть в правильном масштабе политическую силу ума Пушкина и глубже проникнуть в законы политического и личного поведения великого поэта.
Через века и страны будут подниматься всё выше две великие фигуры. Они будут двигаться навстречу друг другу, они друг друга поддержат с пониманием и с любовью. И что останется от завистников, от патологических лжецов, от человеконенавистников? Бесконечная космическая пыль.
Александр Лацис
По материалам: naarapa.narod.ru