Стекло

— Мама, я маленький принц, запоздающий, последний дофин, выбежавший на избитую лестницу, поросшую бурьяном и сорняком в поисках заветного башмачка. Я нахожу старые, поношенные туфельки, застрявшие в широкой трещине ступенек, ведущих вниз. Но мне уже не догнать ни кареты, ни крысиных хвостов, разбегающиеся, расползающиеся длинными полосами в разные стороны от разбитой, заплесневевшей тыквы. Мне не догнать, не долететь – я из другого измерения, я могу только присесть на прогнившие временем ступени и заплакать, как и ты, когда уж за полночь, не посмела сбежать в карете, а ждала на развалинах старой сказки.
Я внук фей и колдунов, я правнук тихих богов, я – их наследство, их гордость и напоминание о том, что их больше нет, что они ушли в никуда. Списки их имен сожжены, их храмы разрушены; и я, принц заброшенного замка, забытых легенд и древних сказок, ухожу в глубины темных ходов лабиринта, где еще сохранился последний свиток изначального света и тени, мысли и забвения, фантазии и пустоты. Но слишком разные переводы… Боги вложили в человека больше, чем того желали, больше, чем того заслуживает человек, поэтому и расплачиваются утратой памяти о себе.
Вновь и снова я чувствую себя побитым и изношенным; что же так ноет, что не позволяет мне встать не то что во весь рост, но хотя бы немного? Пронзает, режет затвердевший в стекло песок, словно я состарился в одно мгновение, словно мне не к чему больше стремиться. Я должен подняться над вершинами старого милого мира… Какая мучительно-прекрасная жизнь! Как же мне больно, мама! Избавь меня от тяжелых — стального цвета — побоев, замажь синяки – они такие грубые и жестокие, в них столько слабости и безнадежности, страха и отчуждения. Нет, я не боюсь их темного цвета, они мешают мне двигаться дальше. Синий свинец в голове, холодный металл ужаса от сознания своей незащищенности, твоей незащищенности. Сможешь ли ты простить?..
Взлет над миром сопричастен со смертью, которую невозможно принять.
Тяжелый, немного слащавый запах лекарства и хлорки смешивался с ароматом глажки вокхого постельного белья и ритмическим звуком стиральной машины. Казенные пододеяльники, наволочки, простыни с выцветшими узорами, в цветочек, в горошек, в полоску, словно все кругом домашнее, аккуратно и чисто лежали на полках прачечной в детсаде №13.
— Лежишь и вдыхаешь назойливую, привычную свежесть чистых одеял, пропитанные сотнями, тысячами испарений жизни, множеством простуженных и заразных, немощных и симулянтов, казарменных и новорожденных. Они крутились, вертелись в полусиних тонах тряпок, они выздоравливали и умирали – и все проходило через мягкие, состарившиеся руки матери.
Шум бегущей воды, равномерное щелканье стиральной машины из одной стороны в другую, под звук которого забываешься: непонятное состояние; тепло сушилки – и вокруг, везде, спокойное, ровное дыхание матери, уверенные, неторопливые шаги; как сумеречная мелодия природы, как предрассветная прохлада утра, влетает в тебя ее мягкий голос.
Дряхлеющая плоть вздремнула за гладильным столом, дородная женщина бежит на рынок, молодка — на свидание, пьяные старухи к начальству за грамотой, а мать, не спеша, изредка что-то напевая, разглаживает белые ткани для сотен жизней в яслях и в группах, сотен будущих властителей и мирян, преступников и судей, учителей и пекарей, поваров и артистов, банкиров, и нищих – все для них, сегодня таких маленьких и родных, а завтра больших и далеких.
Она сдерживает слезы, она старается скрыть слабость, напуская на себя веселый вид; она силится не выплеснуть, сохранить все в себе от посторонних глаз, не пытаясь влезть в душу случайным прохожим или недавним знакомым, или сослуживцам, чтобы пожалели ее взрослую жизнь. Она не старается втиснуть свой мир в их сочувствие к не сладкой судьбе других, таких же, как она.
— Тебя покрывают синяки от побоев, тебя окружают усталые женщины, получающие за твой труд медали, тебя ревнует хронический алкоголик-муж, принесший домой седьмую часть зарплаты, тебя обсуждают пропившие, прогулявшие свою молодость соседки, а в колыбели ноет младенец: гордость или досаду принесет он, жизнь или смерть, отраду и утешение или стыд и горечь? Он пьян от запаха мокрого белья, он опьянеет от одного стакана вина в тринадцать лет, он парит над тобою, когда его синее тело холодеет под теплым одеялом твоих рук в больничной, выкрашенной почему-то в синий цвет палате.
Я проношусь синей тенью над твоей измученной жизнью, синим туманом накрываю твое уставшее лицо. Ты – дочь верховного божества, праотца первых неписанных природных законов. Ты его маленькая отрада и услада, и он ждет тебя, не в силах даровать земное утешение кроме младенца в люльке, кроме меня до времени воспарившего в неизвестность, и раньше повидавшего своего предка. Ты наизусть читаешь его законы, которым тебя не учили, и по ним живешь, никому не причиняя вреда, не становясь ни у кого на пути. Но, видимо, законы слишком давно установлены – устарели, — их прописи смыты временем и грубыми руками людей.
Я не смог подарить тебе счастливый удел. Ты не беспокойся, я не один в пропахшей казенным бельем палате – нас много, с разных уголков земли. Я им не отвечаю, но они говорят со мною: шепчутся по углам, прислушиваются к моему тихому, слабо пульсирующему дыханию, всматриваются в мое бледное лицо. Я худ и бледен, как мир живых поэтов, как мир иссохших полубогов на развалинах жертвенников; сквозь сон, в бреду, шепчу non erubescit; мне не за что винить тебя… А большего никто не поймет. Ты открыла дверь, о которой не знают многие матери, которые не говорят о ней, страшатся ее. Ты всегда думаешь о завтрашнем дне, ты не боишься жизни, как я. Ты рискнула. Они же, те, слабые и крикливые, потерялись в глубинах иного рода страстей и порядков. Ты вложила заветный ключ от двери и, чтоб только я услышал, промолвила: «С Богом!». Провожая меня в дорогу, ты плакала, как всегда, закрывшись в ванной, ты рыдала навзрыд, включив кран, а я, спотыкаясь и не оборачиваясь, желчно и притворно, эгоистически и небрежно шел вперед, пока не упал…
Ни благодарности, ни ответа не родилось во мне. Я не поднялся и остался лежать в безлюдной палате среди лекарственной пыли, голосов за стеной, ленивым топотом медсестер и скучных врачей.
Многие еще шумели, но ни о чем конкретном и существенном не договаривались. Разговор выливался в пустой, зудящий, несформированный, шепелявый, нудный, нечленораздельный гул, который уже не имел никакого смысла для молодого человека тяжело упавшего чуть в стороне под стволом тополя, и прижавшего голову в колени. Он не слышал ни чьих голосов, силясь встать и уйти, куда глаза глядят. Каким-то смутным сознанием он уже понимал, что ему здесь не место, но веки закрывались, руки не слушались. Еще один миг – и он остался бы с ними, с неизвестными призраками, до утра.
Летняя ночь не грела худое тело юноши, она обволакивала его шею, целовала его ресницы – только бы он не просыпался, только бы не уходил от нее в такой прекрасный момент ее цветения. Ночь сыпала ему звезды на костлявые плечи, она ворошила улыбкой его черные локоны на голове, она ему шептала необыкновенные, неуловимые раннее слова, которые повторяли истину всего мира и всей жизни; ночь слегка заплакала, оросив его по-девичьи большие ресницы, когда не услышала ответа, когда поняла, что ее не видят, что ее не замечают. Она еще раз рискнула напомнить о тех днях, когда ее воспевали, когда ее принимали за божество. Но юноша не двигался с места, не подавал виду, что он ее прекрасно слышит и видит. Ночь разбивала его существование своим назойливым присутствием.
— Эй, дружище, — услышал он совсем другой голос, такой привычный и жесткий, хриплый и грубый – он так отличался от той музыки, которую подарила ночь. Юноша весь внутренне сморщился, сжался, ему не хотелось поднимать головы. – Дружище… — «чего-то у него нет» вопрошал знакомый земной человеческий голос, — язык проглотил?..
— Мама, я другое хотел прокричать: «Прости!» Сотни раз язык мой не поворачивался, тысячи раз я отводил взор от твоих зеленых глаз. А теперь я скажу – ты не услышишь, посмотрю – ты не откроешь глаза. Я стою с повязкой траурной повыше локтя, на костылях, с перекошенным — от удара молотка человеком и от хлестской пощечины жизни — взглядом. Мне не за что жаловаться, мне не на что… Я отвечу, ни кого не обвиняя, за свои грехи и ошибки. Но проснулся бы я, поднялся бы на ноги, слабые, тонкие, дрожащие, подкашивающиеся, не лежи ты сейчас передо мной?.. Посмотрел бы вверх, увидел бы кругом мелькающие лучи солнца и их смутные тени, брызги безумных волн моря, бесконечного, неистощимого, неоспоримого?.. Увидел бы снежные маски, бледные, надтреснутые лица людей, слабых, может еще больше, чем я? Неужели только я вижу их впалые глаза, их потускневшие неживые лица?.. Я слишком болен сегодня, я слишком болен навсегда. И теперь я провожаю тебя с чувством вины: не поднимись я – и ты не одела бы платья… лилового цвета… Не поднимись я – и мы… Как же тяжело отделаться от моего окружения, которое верит в свою жалкую помощь. Как они верят в себя, не смотря под свои проржавевшие, опухшие ноги. Они не в силах посмотреть, не в состоянии, даже не желая этого, боясь всего, что касается именно их существования, вглядеться в собственную жизнь. Кроме вмешательства в чужую – у них ничего нет. Просто копаться в посторонней душе намного легче.
Не знаю, чтобы ты сейчас сказала, увидев меня лежащим пьяным под скамьей, разглаживающим непонятные синие следы на теле; чтобы ты ответила, если бы узнала меня, страдающим бессонницей под крышей нашего холодного дома, зато с живым, горящим огнем в уголке моей вселенной, который не потух и не потухнет в синей палате, который тушили тысячи голосов, который запугивали тысячи призраков? Ты бы поняла. Я твое забрал, а взамен ничего не даю. Я тот же эгоист и притворщик. Но настоящее не в жертве, а в искренности. И в последний раз я молитвенно шепчу, как перед покаянием: «Прости, мама»…
Три темно-синих силуэта удалялись под покровом предательницы ночи, которая не смела вмешаться в человеческие дела, которая не решилась защитить своего юного любовника. Она хотела только обворожить его своей красотой, своим забытым величием, неповторимостью, но разве в мыслях держала она сохранение пьяной жизни в человеке?
Сгустки капель в отсветах луны казались синего цвета, им никто не мешал прокладывать себе дорогу от виска по скулам, по щеке, по шее, чтобы упасть на траву и впитаться в теплую землю, в теплую почву летней ночи.
Бессмысленный, отрешенный от всего мира, от сущего, от всего и вся взгляд провожал неясные тени в пустоту ночи. Он сжимал пучок травы одной рукой, другой упирался в землю, пытаясь крикнуть им вслед, силясь подняться – и уйти домой.
— Ты всегда боялась, когда я поздно уходил из дома, чтобы не избили, не ограбили, не зарезали. А что у меня есть? Ты волновалась, увидев меня хмельным и грязным; ужас, непередаваемый ужас выразился в твоих глазах, когда слышала ночью свист в моей груди, и тут же, вскакивая, включала свет. Как волчица, знающая, что это ее последний выводок, старалась заполнить своей лаской и вниманием мои мучения. Ты вызывала врачей, ты бежала в больницу в три часа ночи, ты умоляла и унижалась на бесстрастно-канцелярский ответ, что доктора нет.
Зимой мы сбегали на улицу, когда ты в первую очередь закрывала мое лицо от обезумевшего, пьяного отца, от его кулаков, когда он метил в живот и в грудь… Ты плакала, и я вместе с тобой. Иногда выходили соседи, вызывали милицию, а затем, жалея, обсуждали и наставляли как нам дальше жить, про себя, наверняка, тупо усмехаясь. И ты все унижалась. Унижалась ради меня, работая, как та, потерявшая башмачок в сказке, у кого только возможно. Сколько дорог и ночей, таблеток; сколько слез, зим, врачей – все ради крохотного человечка. А я?.. Насколько неприемлема жизнь и литература, насколько они борются друг с другом за существование.
Вскоре мы узнали, что и днем мир неприветлив, когда мой незаметный взор почему-то остро кольнул случайных прохожих…Тогда ты узнала, что любой взрослеющий мальчик, рано или поздно, становится мужчиной. Важно ли как? Но я вырос, ты сжала в тиски материнское сердце, дав самому постоять за себя. Как же тогда тебе стало больно!.. и ты уже только оберегала словом, как могла, как разрешила себе говорить.
Кто ж знал, что память людская настолько исковеркана. Я не помню удара, но мир расширился еще больше, до темной бездны в глазах…
Кап-кап.
— Капельница…
Неумелые, небрежные, неосторожные руки медсестры, порой грубые и ленивые, иногда тяжелые и безразличные возились у изголовья больного. Проверив привычным взором все ли в порядке, поправив прежними жестами подушку, от чего больной, покрытый синяками и ссадинами, слегка застонал, медсестра присмотрелась к лежащему на койке подростку. Повторяя невнятно что-то шепотом, едва приоткрывая губы, сквозь сон и пустоту, юноша улыбнулся, от чего его лицо исказилось в жестокую, гневную, и в то же время немного насмешливую и презрительную гримасу, словно он сквозь завесу своего темного и закрытого сознания смеялся над всем миром. Эта усмешка показалась опытной медсестре неприятной, и она, словно в ответ, натянуто и испуганно улыбнулась.
— Сколько запястий и пальцев я перевидал: в кольцах, в перчатках, жирные, тощие, мягкие, гладкие, холодные, нежные, шершавые и острые, но ни одни не напоминали твоих. Сколько вен, что порой прятал их, как бы чего не подумали. Ощущал себя частью тех, зависимым. Мечты, мечты… И снова сон, влажный, смутный, пугливый, неясный, но волнующий, тревожный, капризный. Сколько во сне мучительно-неясного…
Я бы устал от вечного казенного запаха больницы. Иногда, мне кажется, лучшее здоровье, то, которое позволит за деньги снять хорошую, уютную, домашнюю комнату. Здоровье, заметь, не для жизни, а для больницы. Справки делают все, льготы — многие. «Я не человек, я — бумажка. Не смотрите на меня: я – сволочь и гад. На двойном листе написано, что я замечательный гражданин, гордость школы (наверняка). И еще: «очень ответственный и аккуратный мальчик». Не смотрите на меня – вы увидите неправду. Бумага есть?!.. вот и читайте, да повнимательней!
Видишь, я – хороший! Я тебе улыбнусь, сколько хочешь. А нет, у меня есть другая бумага, но я слегка постарше на ней, с больной синей кожей. Ой, не похож совсем на себя, да? Портрет явно не мой, да и буквы не русские… Но ничего, у меня еще есть, для объективности – нет – цельности – объема – количества. Считайте, не отходя от кассы…»
— А теперь, мама, и ты на одном лоскутке тяжелой бумаги, писаной черной капелярной ручкой каллиграфическим ровным почерком: родилась, город, район, сокращения…
Ни словом о тебе. Какая ты на самом деле, какая?!.. Зато города… чертово семя, где любой муравей ближе к тебе, чем человек к человеку, зато города, где мы скрываемся за толстым слоем бетонных стен, хотя они не защищают ни от чего. «Города, где место человеку?» Словно пригвоздили к одному месту, как дерево, да и не дерево, а так, фонарный столб, и ни шагу влево, ни толчка вправо. И здесь я ограничен в свободе, я раб родного города, а то и целого государства. Мама, а я хочу на Тортугу!..
Мама, если бы ты знала, до чего же странно слушать бездушный вопрос о последней бумаге с твоим именем (прости, если и я стал так выражаться). До чего омерзительно и противно видеть их стеклянно черствые, грустные тупые глазницы, словно им стыдно находиться в закостеневшей до омертвелого парадокса голове.
Мама, я хочу играть на пианино!.. Мою музыку не поймут, а кто понимает человеческое слово? Почему ты не отдала меня в музыкальное? Боялась? Дыхание, чертово дыхание, я и без того задыхаюсь. Пианино бы, пианино…
Он все силился представить темный, холодный дождь, который с порывами и свистом, с таинственным и проницающим свистом проникал бы в каждую клетку его худого и больного тела, он его жаждал как чуда с небес, как некоего благоволения, как очищения и освобождения от наложенных на него дум, серьезности, ответственности, но, как назло, словно незаслуженно, с примесью подачки, лениво, несколько раз капли едва оросили лицо юноши… и всю сопровождавшую процессию. Не замечая ничего под собой, стихия продолжала свой великий, вечный, строгий путь по берегам и рекам, по равнинам, впадинам и горам, по улицам и переулкам. Где-то ей хотелось показаться, прикоснуться, порой, присмотревшись и не улыбаясь, остановиться на короткое мгновение – там она, наверняка, и являла свое величие, свое непомерное, всесильное величие; где-то ей хотелось задержаться с невольной примесью любопытства: что может еще произойти удивительного в подвластном ей мире, чтобы она выразила свое невольное изумление? А здесь ее ничто не привлекало – она видела все миллионы, миллиарды раз: и бледные следы побоев, и случайные синяки, оставленные свирепством мужа, справедливые они или нет, легкие или тяжелые, — совсем другое дело, главное, что ею уже сотни тысяч раз виденные.
Детишки, не обращая внимание на столпившихся взрослых, бегали, с криками и непонятными возгласами, по кладбищу, иногда прячась со смехом в юбку бабушек, в брюки дедушек, которые то и дело, шепотом, их пристыжали, отпихивали грубо руками за спину и продолжали слушать церемонию похорон.
— Молодая еще совсем.
— Да, кто бы мог подумать. И сынишка остался – сирота совсем.
— А отец?
— А что, отец? – Перешептывались иногда соседи, родственники, знакомые, сожалеюще устремляя взор к сутуловатой фигуре, шедшей первой позади гроба.
Больше он не будет маленьким, больше его ничто детское, легко-облачное и легкое не коснется. Юноша с кровоподтеками под глазами, с безучастным взором ко всему происходящему, склонив голову, провожал в последний путь самого близкого ему человека на свете, на всем белом и черном свете. Он вырос еще до рождения, но раньше, хоть и иногда мог забыть, оторваться от тяжелого слова «взрослая жизнь» – сегодня она ворвалась в него стремительной, безумствующей волной. Почему человек взрослеет только в одном случае? И каков этот случай?
Причитания и слезы не дали попрощаться сыну с матерью. Он стоял в ожидании, когда останется один, но ни слов, ни слез не находилось: внутри ширилась пустота, разрасталась, проникала во все здоровые и свободные клетки. Неизвестная старуха чуть ли не отпихнула его в сторону, разревевшись профессиональными слезами плакальщицы. Может, он все высказал раньше? Может, придет еще его время? И он собирался силами, а выговориться так и не смог. Но нет, нет, что-то вылетело из его уст, лишнее, обыкновенное, чужое, привычное. Он упал на колени и заплакал от невыразимости своей внутренней пропасти, своего нераскрытого сердца. Все силился раньше скрыть его, внутренний мир, который он, растаптывая и убивая, закрывал в себе со всей тщательностью истинного игрока, пытался спрятать себя от матери, а теперь доучился, да так, что комок в горле ему жег сердце через все кладбище.
— Может тебе помочь? — услышал юноша мужской, сдавленный, пропитый голос мужчины за спиной, — ты не стесняйся. Ты обращайся если что. – Сирота продолжал молчать, стараясь смотреть человеку в глаза, но видел совсем другое, чего не мог объяснить ни кому из них.
— Оставь его, не трави душу, — вмешалась женщина, по-видимому, жена, — ты же знаешь, что он ни с кем никогда не разговаривает. И не заика вроде, и не больной. Вишь ли, как мать, все молчит и молчит, словно юродивый или дурачок.
Мать похоронили на кладбище, возле родной деревни. Сюда, где она родилась, ее влекло всегда. Природа и тишина возвращали ее в дни безмятежного детства, самое счастливое время в ее жизни. Я свое детство не настолько ценил и ценю. Мне постоянно кажется, что память находится под некоторым преломлением, словно под увеличительным стеклом. Помню, когда мне исполнилось примерно лет семь, мать рассказывала о бабушке, которую война застала в тринадцатилетнем возрасте. Ей пришлось стирать вещи немецких солдат, за что те платили хлебом, салом, мылом, зажигалками. Однажды, при таком рассказе в маминой руке оказался маленький плоский коричневый предмет. Это оказался твердый кожаный карман, из которого, благодаря металлическому креплению, выдвигалось мутноватое в редких царапинах стеклышко, обрамленное в пластмасс. Удивительно изящная вещица. Ничего общего с советскими изделиями подобного рода. Видимо, куска хлеба не оказалось, и немец расплатился такой вроде бы незатейливой вещью. Кто его знает, откуда она взялась? И видел-то я ее один раз. Вскоре у меня появилось несколько разных по размеру увеличительных стекол. Но то, в кожаном кармане, исчезло. Может, оно стало частью моей памяти, моего видения мира? Под таким стеклом многие предметы и события становятся ирреальными и преувеличенными.
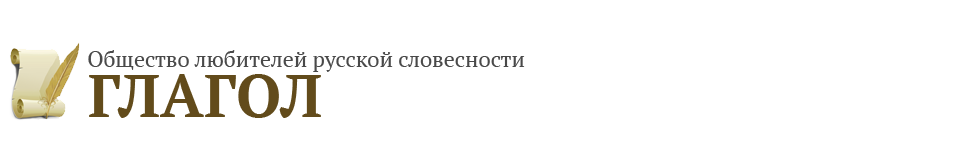

Потрясающая постмодернистская(в лучшем смысле) проза, Евгений!Живая ткань, звукопись ритмизованная поэтика точно подобранного слова, настоящий удивительно богатый язык! Наворачивались слёзы… Не знаю, сколько Вам лет, но вы необыкновенно одарены…
Теперь ложечку дёгтя… Первая часть(условно) читается на одном дыхании; дальше, там где Вы переходите от высокой абстракции к тяжёлым реалиям, возникает (на мой взгляд) некий сбив и снижение (динамическое, семантическое). Я бы на Вашем месте поделила рассказ на несколько разделов(главок.., частей), ведь даже ритм и манера изложения меняются… Но это технические мелочи, главное-выстраданный глубокий текст(метатекст),и то, что у Вас есть свой неповторимый стиль и язык! Поздравляю! Надежда Плахута.