Двадцать семь ступенек. И другие рассказы

Двадцать семь ступенек
Плесневело-жёлтый дом напоминал великанский сыр с дырчатой аркой и съеденными крысами туфель ступеньками; вызывал чихание, отсылая мысль куда-то: к раскопкам гробниц, булгаковской чертовщине; бередил неокрепшее сознание дуновением чего-то ушедшего, к чему отчего-то хотелось иметь хоть какое-то отношение….
Нат. Руд, то есть, Наталья Рудольфовна, оказалась пенсионеркой — дюймовочкой: с чуть тронутым старческим румянцем, личиком, в драповом в рубчик, пальто, в допотопных не снашиваемых ботах на крепах-застёжках. Её суставы и сухожилия работали, как жернова грозящей осыпаться мельницы, перемалывая последние, отведённые Господом, дни и часы. Глаза, как медленно задёргивающиеся кулисы, ещё видели: пусть еле-еле, пусть без оттенков, но видели; руки, скорченные подагрой, словно вывернутые с корнем тонкие деревца — ещё помнили: где лежат мельхиоровые ножи, как завинчиваются крышки, и как вчетверо складываются салфетки. И ещё они знали, как нащупать в нафталиновом плену ридикюля сложенную стопку красных крахмально-хрустых бумажек.
Старая женщина передвигалась лишь по одной ей известным опознавательным знакам (условно поделенным мной на «зарубки», «виселки» и «цеплялки»). Каждая зарубка-выщербинка в видавшей виды, стене; каждая цеплялка-крючок, или скошенная набок перила, — были шифром тайного воздыхателя, созданные специально для неё одной — для «навигации» Нат. Руд по улиточному лабиринту подъезда.
-Внимание! – Командовала я. — Сейчас будет лужа.
Старушка резво отбрасывала костыль в сторону (обычно рядом никого не было) и, учетверив вес, провисала на моей руке. – Всё под контролем, не б-б-б-бойтесь, я в-в-вас держу. –
-Что это, Надя? Почему мы стоим?
-Тут Лужа, Наталья Рудольфовна.
-И в войну здесь не было мокроты! Где дворник? Мы пойдём вперёд…через лужу.
-Мы идём, медленно, но идём, мы гуляем…. Всё под контролем! – Успокаивала её я, промеряя воду новенькими балетками. – Брр, как же холодно! Это не лужа, а целое озеро! —
Моей спутнице было плевать на холод и глубину: её тростниковым ножкам, вдетым в уютные верблюжьи копытца, было и море по колено! Полуслепая, она твёрдо знала, что надо идти: по сантиметру, со скоростью улитки и с упорством танка; приставными шажками, но идти и идти, только вперёд и вперёд, через двор.
Лужа, это ужас, лужа — незапланированное…. Водомоина распласталась от подъезда до самой арки. Свернуть – невозможно. Но если цель, — дышать…. Идти и дышать, добраться, доползти, доплыть: туда, где маячит сырная арка, где выход. Глотнуть несвежего воздуха: у-ууу, там что-то шумит, колышется страшно, машины ли, люди, неведомое…. Дойти, высунуться, как мыши, из норки-арки, и в путь. Нет, мы не мыши, кроты. Вернуться домой. По лестнице в тридцать семь ступенек, съеденных человечьими ногами.
.. Скоро мне удалось отучить Наталью Рудольфовну, чуть что, бросать свой костыль. Мы привыкли друг к другу, в прямом смысле «притёрлись». Она была улиткой; я, — становившимся с каждым днём всё круче и круче, склоном.
Так мы с ней и гуляли. Иногда становилось нехорошо мне, но я терпела; зная, что это скоро пройдёт. Малыш во мне подрастал. Казалось- это вес хрупкой старушки, вцепившейся в мою руку, растёт как на дрожжах.
Временами плохо становилось ей, и это было куда страшнее. Тогда наше движение замирало, мир приобретал другие перспективы, замедляясь вместе с нами. Моя спутница отдыхала. Верней, отдыхало тело; в то время, как её цепкие сильные руки, сросшиеся с моим локтем в одно, работали за двоих. Но самыми счастливыми для меня были минуты нашего возвращения.
Вот уже впереди замаячили последние три ступеньки: три из двадцати семи. Я делаю усилие, и — подтягиваю её на руке, — Нат. Руд технично, как летучая мышь, прикрепляется к любимой «цеплялке», — дверному крючку для сумок — и я водружаю «выгулянную по полной» бабушку перед входной дверью. Уф! Можно отдышаться. Дверь открывает Толя, — любвеобильный весельчак с маленьким горбиком,- троекратный отец, распахивает пьяные объятья,- но нам туда не надо.
-Анатоль! – Доносится спасительный голос его жены.
-Это ты, Толечка? – Спрашивает Нат. Руд. – Вижу, что ты, по запаху вижу. – Наденька, дашь ему потом из ридикюля денежку. Сладкого деткам купит.–
Толик невнятно бурчит, а я веду её вдоль длинного тёмного коридора с древними антресолями, в которых раньше хранили дрова; мимо чужих дверей — в комнатку, в которой когда-то жила прислуга. Старинные книги, чугунная кровать, облезлый шифоньер, и фотографии, фотографии…. – Кого не стало в войну, кого потом, моих-то, никого не осталось. — Объясняет она.
Достаю из её сумочки «пять» себе и «пять» Толику: из аккуратной пачечки новых пятирублёвок. Ух, ты, да она подпольная миллионерша!
-Я богатая. – Смеётся Наталья Рудольфовна, словно прочитав мои мысли. — Пенсию получаю, а трачу мизерно. Вот и копится на прогулки. —
Иногда я застаю её готовящей, сидящей на высоком стуле. Детского размера кастрюлька — слева на чёрном крючке, поварёшка-справа на жёлтом. Исцарапанная слепой вилкой тарелочка, эмалированная кружка с клубничкой. Что ещё надо?
-Руки пока работают. – Объясняет НатРуд. – Когда тренирую.
******************************
А начиналось всё так….
-Ты в целом к старикам как относишься? – Как-то спросила Ленка, наш курсовой комсорг, неотвратимым торнадо настигая меня в буфете. – Надеюсь, без аллергии и классовой неприязни? Есть тут одна работка!
-Старики и дети, — наше всё! – Тупея, как на собрании, выпалила я. — А что делать-то нужно?
-В принципе ничего. Нат. Руд выгуливать.-
-Собачку, что ли? – Переспросила я, на что она только фыркнула.
-Нат.Руд — Не собачка, а баушка, — Наталья Рудольфовна, просекла? Будешь её гулять, дышать с ней, местами свежим московским воздухом. Бабка-то центровая, под боком с утилищем, на Кочуевской живёт. — Она сосредоточенно жевала, а в моих, озабоченных учёбой и скорым замужеством, двадцатилетних мозгах, свежею акварелькой вырисовалась ясная перспектива халявы.
-Согласна, тогда держись! – Раздухарилась Ленка, привыкшая с ходу брать «быка за рога» – Во-первых: ты комсомолка. Так. Во-вторых…. Забудь про первое! Бабулька клёвая, лёгкая, не жлобивая. — Продолжила она, раскладывая на столе нафюрморт из распаренных сосисок с ледникового вида горошком на фоне кефиро-булочной классики.- Один минус: двадцать семь ступенек….
-Что??? – Переспросила я.
-Это я так…. — Вздохнула она. — Бабка медленная, как улитка на склоне. Зато не брюзжит, не ноет….. – Мы поделили сосиски, честно размежевав горошек, и Ленка торжественно приступила к булке. — Галка гуляла…, в смысле, с бабкой гуляла, — в декрет ушла, мне скинула. Я тоже гуляла-гуляла, похоже…, это заразно… – Шепнула она, поглаживая свой, рвущийся из тесного бандажа на волю, животик. –
-Что, беременность? – Улыбнулась я.
-И это тоже. Да…, странная у нас эстафета. – Добавила Ленка, рассеянно прихлёбывая кефир. – Зато, в час пятёрку башляет (за час –пятёрка) ! Два выгула — чирик. Если надо, в кредит даёт, — и …гуляй — не хочу! – Как товар купец, расхваливала Ленка.
-Вообще-то я долгов не люблю. — Сказала я. А за старушку, — спасибо.-
-Дар-р-ррю! Это те… не на морозе глотку срывать.-
Тогда…, в середине восьмидесятых, мы, студенты музыкального училища, могли подработать, попеть-поиграть, только развлекая публику в парках, на рынках, или на «жмурах», — игре на поминках. Но такое «счастье» выпадало лишь стойким к алкоголю, духовикам.
Поэтому такая работа была мне очень и очень нужна.
Ведь и у меня под сердцем (о чём я не спешила распространяться) уже билась новая жизнь. Действительно… Странная «эстафета»….
*******************************
Как-то …вползли мы в подъезд, ступенек на семь поднялись, а тут сверху стол круглый несут. Бабуля на мне висит, и мы снова ни тпру, ни ну! Дядька с тяжеленью своей на вытянутых руках стоит и ждёт, что мы назад спустимся, его пропустим: руки большие, красные, а дрожат, видно, стол настоящий, дубовый был. А у нас задний ход не предусмотрен.
Внимание! – Командую, и тихо так трость у неё забираю.– Перекур. Остановка. – А сама прикидываю, что же делать.
-С дороги. – Хрипит носильщик. — Ща-ааа-с стол на вас ронять буду.
-Тчсс! Кккакой ронять?!? Бер-р-ременная с инвалидом! – Ору. — За себя не ручаюсь!- Держу Трудовну левой, а правой, так, для виду, машу в воздухе костылём. — Мы, простите, не можем, с дороги, уж лучше вы….
-Быр-ррро с дороги — Пуская слюну, рычит несчастный…, а стол, как в замедленной съёмке, всё на нас накреняется…
Тут бабка тугая на ухо, начинает тихо попискивать. – Надюша, что случилось? Затор? Или лифт устанавливают?
-Да, именно лифт! Мы ждём лифт! – Выкручиваюсь, подавая знаки носильщику. – Типа — никак нельзя…, кранты; своим ходом ни туда, ни сюда, а вот наверх её, «вира», поднять — кантовать можно, и всё такое….-
Наконец, просёк, умный оказался мужик. Я к стенке прижалась, живот, как смогла, втянула. Не помню как, но отцепил от меня; подхватил, подсадил бабулю на стол, и… так на столе и донёс её до квартиры.
-Что это, Надя? Я лечу, как в юности?!? О! Это сон… Упоительный сон… — Лепетала Наталья Рудольфовна.
*******************
Не любила я занимать, но сама грешным делом, порой, брала у неё вперёд, за два, за три «выгула», но всегда отрабатывала.
А как-то Наталья Рудольфовна сама предложила:
-Возьми за лето вперёд, детка, мне так, право, удобней будет.- Добавив. –Сегодня гулять не будем. Ветрено. — В тот день она показалась мне усталой и особенно бледной. Потом я на неделю уехала. Думала, ничего, выйду три раза. Хотя, куда там, ведь скоро в декрет. Прихожу.
Вот и её сырный дом, вот наши двадцать семь ступенек (тащу) Несу ей бананы. Думаю, пожую, пока откроет. Звоню. Вдруг дверь открывает Толик, серьёзный такой, и подозрительно трезвый.
-А где Наталья Рудольфовна? – Моргаю глазами, ищу её силуэт в коридорных потёмках.
-Отгуляла она своё. – Говорит.
-Как же так? — Роняю авоську с бананами. -…Я ей должна… Я деньги вперёд взяла.
Тут выходит, недавно родившая, Ленка.
-За витамины спасибо. – Говорит она, забирая бананы у Толика.- Только нет больше Натальи Рудольфовны. Не стой, входи. Мы все тут, кто её выгу… Кто с ней был в последнее время.… Хоть еврейкой беспартийной была, а жадности не прибавилось. – Смущённо добавляет она. —
-Помянуть надо бы. – Суетится Толик. – Напиться б…, но по-людски!
-Анатоль! – Зовёт жена. — Дети ждут.
-Иду! Тебе ж нельзя нервничать…. – Торопится Толик. — А у Натальи никого не было. Сидит, бывало на своём стуле, за малыцами следит, чтоб, чего не случилось. В июле деньжат ссудила, да что уж там, подарила…, царствие ей небесное. – Он повернулся спиной, плакал, подрагивал горбик. — Видать, знала, что безвозвратный кредит…
-И мне как-то тут позвонила, к себе вызвала… — Рассеянно проговорила Ленка. — Ну, и тоже… — Сказала, «у тебя хранить надёжней, хочу, чтоб денежки отлежались». Как тут не взять?-
Мы разговаривали, а Наталья Рудольфовна сверху глядела на всех нас, на свой костыль, и, вдруг, расправив новые крылья, взмыла над своим плесневело — жёлтым, похожим на мышеловку, домом.
Внизу качался крючок юного месяца, но лёгкой Натальиной душе было не до него. Она не желала больше ни к чему привязываться, ни за что цепляться…. Теперь НатРуд могла гулять где , и с кем хотела….
****
Завтра в Космос
Как только дочке шесть исполнилось, все решили, что больше нечего ждать милостей от природы в наш информационный век, и записали ребёнка в школу.У Лизы вся комната мерцает, когда свет выключен. Сатурн с Ураном, кометы всякие шарят, метеоры в ночи разгоняются и светильник в виде ракеты. Мы хотели всё розовое и пушистое: обои с принцессами в панталончиках, пятачка на шкафчик, пуфик в рубчик…, а ей, брр, этот чёрный, пустой и холодный Космос подавай; ну, в крайнем случае, Незнайку, и чтоб непременно на Луне! Внучка Терешковой растёт, прям, пацанка какая-то! Но самый кошмар начался 1-го сентября… Точнее, за день до начала её первого учебного года.
-Не хочу я в школу, я в космос хочу … — Канючит Лизанька, отталкивая ножкой пухлый розовый ранец.
-Лизанька, ты же девочка, и вообще, твой Космос — просто игра! – Урезониваю я дочку. — Все люди учатся или когда-то учились. И ты будешь!
-А я не буду! Я в космосе буду! – Она выпятила нижнюю губку, пока я старательно объясняла, что для того, чтобы полететь в космос, нужно ещё больше учиться. Тут наш папа оторвался от телевизора и протянул:
-Шко-ооола – эттто… – А потом вытянулся в струнку и запел. – «…Вместе весело шагать по просторам…»…, это друзья, экскурсии, …«и конечно припевать лучше хором…», кружки, наконец… Я такие модели самолётов делал, что ого-го!- Он подхватил швабру, и стал выписывать ею всякие «мёртвые петли» и «штопоры». —
-А какой в школе буфет?!? – Зажмурилась, я, словно глотая слюнки. – Но главное, это конечно, знания.
-Хватит ребёнка разгуливать! – Возмутилась я.- Завтра ей в первый раз в первый класс!
-Не пойду я ни в какой класс, если там не будет моего Ко-осмоса-ааа!!!– Завыла Лиза.
-Клянусь околоземными и околошкольными станциями, что будет! – Выпалила я.
-И двигателями внутреннего и внешнего сгорания!!!- Подыграл муж.- Местный домашний космос.
-Ну, так и быть… — Наконец, сдалась Лизочка. – Смотрите у меня, чтоб никаких там тетрадок, чтоб всё, как у незнайки на луне — взаправду было!
*****************************
Па-ааа-адъё-ёё-ёёммм! – Одновременно с будильником заорала я. -Первая космическая готовность! Трусы-кофта-колготы…. Не мне, не моё! Где ранец? Всё собрано? Где? Кем? Ах, мной, сама же ночью, до рези в глазах…. Так, о глазах: промыть, чтоб, как звёзды нам путь освещали, свет…, свет погаси в туалете, но прежде высморкай нос, и лапы в тапы – тебе говорю! Два штриха на морду — себе. Сравнять, что природа не подровняла, присыпать поверхности, и улыбку одним штрихом. На смайлик похожа, а через час — в первый класс…, брр, то есть, в Космос! Не ной! Само собой, провожу… на линейку, выведу на орбиту. Минуты до запуска. Гоним на кухню. Там чайник бесчинствует, ах, да, на Марсе гейзер. Последняя дозаправка. Представь, что это тюбик с едой. Куда-куда выдавила? Туда нельзя! Сперва съешь кашу! Какую? Конечно, космическую, другой не держим, верно, в тюбик не влезла. Зубной тюбик не подойдёт!
Ключ на старт! Отошла первая ступень ракетоносителя. Счёт пошёл на секунды: «Он сказал, поехали, и махнул рукой…» Махни папе ручкой! Папа спит? Тогда в бок пихни, нежненько, чтоб не храпел за штурвалом.
Как только всё, что надо — отвалится, значит, мы в космосе! Дыму-то сколько! Мой омлет- вот это что! Бортмеханик сообщил «стратосферу проходим, борт метеор чирканул». 5… 4…. 3…. 2…. 1…. пуск….
Летии-иим, чувствуешь, доча? Первоклашечка моя, прости, космонашечка…. Цветы в зубы, антенны вкривь белые, поправь…. Где ранец? Брр… кислородный баллон? Ложный старт…, ещё не летим. Жми на стоп. Лифт, — и у астронавтов — лифт. Экстренная остановка в безвоздушном пространстве… да, так бывает…. Доча…, мы опоздаем, ничего, ракета подоэждёт, не каждый же день первый раз в космос…
3…, 2…., полтора…, один с хвостиком…., один с ниточкой, просто раз… НОЛЬ…. Ключ заклинило…. Обратный отсчёт: поворот ключа, ранец-баллон, снова лифт, и снова… летииииим!!!
Дворами, галактиками, взрывая звёздную пыль, мимо пояса астероидов-панельных, непригодных для жизни, мимо космических свалок….
Может, мы не одни во вселенной… такие??? Лучше б были одни!
Вот она, — твоя новая жизнь! С четырёхзначным номером! На ближайшие одиннадцать световых лет! Цветы — встречающим гуманоидам, в смысле, учителям. Тьфу, запутала! Не сутулься, кто дал жвачку?
Старшеклассники тащат на руках первоклашку. Куда? Зачем? Звенит колокольчик, мир более чем очевиден и вероятен. Всех — видно, и только моей цветы закрыли лицо. Речь директора. Для Лизы слова мыльные пузыри, так далеки от родной галактики, лопаются, она их не слышит, она не такая, как все…, космическая…. Первая ступень отошла, и кипящее солнце рассыпалось в брызгах фонтана, взорвав тёплый сентябрьский воздух.
Успеть сказать: не подходи к незнакомым, сиди прямо, не груби; ешь, что дают, и добавку, и у соседа, что же ещё? И учись, учись, учись, как завещал…, да что же это я???
Предупредить, предостеречь на все случаи жизни!
Напряжённо-счастливые лица детей слились в одно среднестатистическое лицо. Девочка моя маленькая! Лизанька!
Но поздней ночью её комната замерцает, задвижется: Сатурн с Ураном, метеоры в ночи разгонятся, и светильник в виде ракеты. Ведь завтра ей снова… в космос….
****
Томкино время…
(Снег, похожий на свет)
За окном белые вспенившиеся сугробы с остановками — пристаньками. Там-снежно, здесь – душно. Что-то подобное, наверное, испытывает высушивающаяся вобла…, вобла под солнцем, рыба под шубой…, лучше- под снегом…» — она слилась с миром таких же, болтающихся из стороны в сторону автобусных рыб…. когда услыхала: «Садитесь, бабуся».
-Бабу…ся? – но подросток в надвинутом на лоб капюшоне уже протиснулся к выходу.– Да я …младше твоей мама…ши, пацан, да ты…? – Вобла махнула хвостом, схлопнув двери за «капюшоном», и растворившись его в февральской соли. «Видно, погано выгляжу. Надо ж, бабуся, и это я?»
-И это — ты! «Радио, или глюк?» — Да, это ты – продолжал голос, а Томка закаменела, – не нюхавшая клубного фитнеса, не вкушавшая ниччч-ччё круче фаст – фуда….
«А Фуа… гру… гра…?»
-Гранд Опера! – расхохотался голос.- По ящику не в счёт!- «Звук … в моей голове… — похолодела Старостина. — от седативных…». – тут голос замолк, зато радио затянуло: «Страшная, страшная, ты прекрасней, всех милей… страшная…,не своди с ума парней»». -И это тоже тоже Ты – вновь пробудился голос. — Страшная, брюзжащая, ненавидящая весь свет. «Срочно за свет заплатить…», — Не заплатившая по счётчику…, не сдавшая библиотечную книгу -«редкую»…, — Даже не раскрывшая её. Ты… дитя не растившая, мужика не знавшая, — гремел голос, или автобусный диктор, — ты и есть никчёмная и глупая бабка» «Сама себе снюсь…»,– плыла Томка, а кошмар всё не заканчивался. «А… если так, … в порядке бреда, просто предположить, что это и, правда я, Тамара Старостина, такая, как все, ни лучше …, ни…», — да стопудово хуже, чем все! Тра-та-та-там, уж климакс близится, а Германа всё нет — «Тупо признаваться самой себе, оч-чченно… неприятно, очевидно, невероятно, но всё это я»! – Ты-ыыыы, ипотекой не битая, корпоративом не спитая, не долюбившая, ни хр-рррена не вкусившая баба…, ба-бу-ся… — Измывался голос во сне, или всё-таки наяву? «А что, — молодая бабка …своему внуку. По возрасту подхожу, да щас таких баушек на каждом шагу, ну, и где же внучёк? — она покрутилась, – но ни сзади, ни спереди, как назло, ни одного бэбика, а сплошь тусклые лица взрослых. – Брр…,хоть немного в голове прояснилось, а и плевать, что бабуся!»
На место пацана сели. «Соль…, снег…, свет… Ночью ей снился снег, похожий на свет, он сыпался так лениво и почему-то вверх…, точно вверх. В салон втиснулась тётка с большущей собакой. Собака громко дышала, осваивая тесноту; и пускала слюни, ища, кем бы их вытереть. Весь автобус подобрал ноги.
-Намордник надо в транспорте надевать, – вякнула былоТома.
-Себе…, бабка, и надевай!- огрызнулась тётка, а собака, рыкнув, и уткнулась в пол.
«Б-бб-ббабка?!? – прикусила язык Старостина. – И, снова я?!?» Слов не было, а злость почему-то не вырабатывалась.
-И снова ты! – передразнила хозяйка пса (или ей показалось?), -старая дева, всеми зубами — сумарями вцепившаяся в эту грё… в эту жизнь, ты и есть самая настоящая бабка, бабуся, старуха!- «Я что, слышу их мысли»? – Вдруг осенило Томку, но на выяснения просто не было сил.
Правая рука, скрученная ремешком поручня, дико ныла, «хоть оторви и брось»; левую тянул дырявый пакет с мукой и консервами, «и не поставишь – рассыпятся»; под мышкой – редкая библиотечная книжка; «Придёт время, и ты откроешь эту книгу…», «сегодня уж точно сдам, сдохну, но сдам! Рука…Так бывает, когда тащишь большого пса, овчарку или ротвеллера», хотя, у неё самой — ни собаки, ни кошки, вообще ни-ко-го. Не уронить бы книгу… В груди непривычно кольнуло. «Надо следить за собой…знать бы, как?».
«Следующая остановка… — «Городок Космонавтов»».
«Надо отдаться тяжкому, а в чём-то приятному чувству автобусной невесомости, и просто парить воздетой к небу рукой, привязанной к пуповине станции, парить у запылённого метеоритной пылью иллюминатора с надписью «Оля плюс Вася». На минуточку стало легче. «Думай о хорошем, что же, что же хорошее? Давит руку, душно и тесно, вот — за окном — хорошо и не холодно, если смотреть изнутри, а ещё снежно и весело в обратном движении снежно-весёлого света, летящего к небу, да… снега». — Тамара оглянулась — ни собаки, ни тётки. «И не заметила, как выскочили? Так сходят с ума…».
«Станция Тех. Обслуживания» — Объявил бестелесный голос. За окном лоскутное одеяло тонаров. «Хлеба купить… Не хлебом единым…;три в одном, покупая, экономишь…; один-един в трёх лицах» «Следующая — «Ярмарка одного дня»». Автобус заскользил в сторону олимпийского вида лыжной горы. — «Видно и мне под горку, покатилось-то как за сорок, как говорится, с ярмарки …«одного дня», почему одного? И ничего не сделано…,» — «ни-че-го, а безжалостный циркуль вечности уже расчерчивает резкие контуры ваших морщин — согласился бодро включившийся телевизор – и, только наша косметика с летними биодобавками…». «Лето, ах лето» — охотно откликнулось радио, заглушая мотор с мобильниками. «…Ах, Лета — река неминучая, всё поглощаещь ты…; воды кипучие…. Бред … завязать с феназепамом, — она немного успокоилась, «прописав» себе лекарство «по четвертинке – чтоб спать без кошмаров!».
Наконец, место освободилось. Яркая соседка, сидящая у окна, достала зеркальце в стразиках. «Похожи на настоящие, и на когтях в тон! Ишь какая,- косясь на неё, прикинула Тома. — Бровки-домиком, татуаж, общий тюнинг, ботекс-фиготекс, не знаю что тамс, и со смертными в смердящем транспортном трансе? Мне б такого ухода плюс джють-джють расходов, и я бы не так рассекала…» У пассажирки тренькнул мобильник: «Да, мась, взял тачку с прокачки? Расписали, под хохлому? Шутишь… аэрографию навели – семь, -считал — семь розовых хатиков…, ага, сердечек? О кей…, а-аааййесс, и у меня ничё, держусь… водитель встретит? А у тя? Ла-ааано…, переговоры переговаривай, всех там уделай! – стразики сотряслись от смеха. – Цулу, мась, всего, и тачурку». — «Вот ведья, блин, угадала — помрачнела Тома. Такой наплевать на возраст….»
«Следующая — кладбище – констатировал автобусный диктор». Она легко представила пышные похороны этой, с зеркальцем; нет, не сейчас, а этак через фоти — фифти еадз — этой, …или таких же преклонных фиф с детскими ушитыми до предела, фэйсиками, с вышедшим из моды идентичным силиконом; потом – жалкие… свои. «А то я ж тут с народом, ты не поверишь, в авто…бусе. – фифа неожиданно развернулась вполоборота к ней:
-Бабуль, этаа, типаа, автобус?»
-«Бабуль? Нет, это, типа, пипец!» — Автобус, доча… — отшутилась она, а фифа снова слилась с мобильником. «Сама накаркала! Тьфу на неё… и на них на всех… зато, кажись, в голове прояснилось. Вот так сон… Да просто меня тупо протелепали» .
-Ой, …книга упала… Я ща. — субтильная фифа нырнула под спинку сиденья, вынырнув уже с книгой. – «Правила перехода…»? — улыбнулась во весь свой ботекс, — …подземного, что ли?- Но так и не разглядела, дальше было затёрто. Придёт время, и кто-то другой отроет эту книгу…
«Надо же, и не стерва!» -Подивилась Старостина. Невразумительно угукнув и запихнув книгу между мукой и консервами, она уставилась в окно, за которым всё ещё парил странный снег. — Ну, очч ..холодно, мааась, ,– соловьём разливалось «зеркальце». – лёд на стёклах, засада какая-то, но ты отогреешь? Ну, всё, чмоки-чмоки, цулу, и меня? Нет, тебя, всего, да.-
Когда фифа вышла, Старостина, чтоб отвлечься, открыла первую попавшуюся страницу, хоть и взяла месяц назад. На пожелтевших листах разводы, «похоже от слёз». Она заглянула в самый конец, как делала десятки раз в детстве, чтоб заранее знать …и не бояться. На последней затёртой до дыр страничке чернела единственная фраза: «Если ты читаешь эти слова, значит, тебя уже подготовили»! – «Интересно, к чему?» Вздрогнув, Томка захлопнула книгу; зажмурившись, загадала, как в детстве: «что сейчас открою — то и случись со мною», но тут же резко раскрыла, ткнув пальцем в какой-то абзац: «Страшно уходить, когда так много ещё не сделано? Не бойся, ты -переходишь…. Нет старости, и смерти нет, есть только ввысь летящий свет» . «Снег или свет…» В глазах помутилось.
«Следующая остановка — конечная». Голос объяснил, что «все остальные выйдут, хотя, лично ему, автобусному голосу на это насра…» ,« нас радует»-поняла Тамара, «…то, что кое-кто должен остаться здесь, ибо пришло томкино время, (он так и сказал — томкино) поэтому не надо бояться, и ещё, что её там обязательно встретят…. Слева что-то впилось, врезалось, крутануло в грудине. «Душ-шшно душ-шше… Не просить же нутро… нитра…, глице…, само пройдёт… Ннн-ннавеяло…, мысли скачут, феназепам, пам-пам, пам-пам, глюки, гендели…, усталость … сколько же ей осталось?»
-Нисколечко не осталось: ни стыда, ни совести… Налакалась, интеллигентка хренова, и в отрубе. Приехали, конечная. – над Тамарой нависла щекастая баба в очках с толстыми стёклами. Пальцы с облезлыми ногтями схватили её за воротник и с силой встряхнули.- Книга упала и раскрылась. Кондукторша нагнулась, положила книгу на пустое сиденье.Придёт время, и кто-то другой откроет эту книгу….- Стэнд ап, блин, приехали. Плохо ей видеть ли, а кому щас хорошо? Да очнись ты, и всё ж в мою смену…. Блин. То зайцев не наловисссься, то морды пораскурочат перед ревизией, а то воще, рожать подопрёт на мытых сиденьях. — Кондукторша протёрла очки. — Какая-то она… не того… Эй, кто-нибудь, помогите! Скорую.., и полицию…. Тут бабка, типа, откинулась…
— Девушка, нам пора, …. – рядом подросток «нет, не подросток» в сползшем на лоб капюшоне протягивает руки, «нет, крылья» навстречу снегу « свету», не вчерашнему, не выпавшему, будущему, который за миллион, «миллион -не так уж и много», световых лет, «за свет заплатить…,» световых лет или дней? Ярмарка одного… дня. Одного? Если звёзды зажигают, то это кому-нибудь… Интересно, кому? Зажигают, ведь это заметная…, экономия…должна быть экономной…, кому должна? Никому, чьи это голоса?»» «тут бабка при смерти», «хоть горшком назови, плевать » И снова голос кондукторши «Господи, она ж ещё молодая… Что ж это деется! Кто небо коптит, всех со света сживает, а кто до сроку на глазах издыхает. Надо было у морга высаживать, теперь с ей возись»!
-Девушка! Умерла она, а не ты…
Ноги Томы не слушались, перед глазами расплывчато — люди внутри аквариумно -прозрачного автобуса, люди, выносящие какое-то…, не какое-то, а её тело: «Девушка???»
Позже …те же пальцы кондукторши ухватят библиотечную книгу, «живых надо бояться!», бросят в вонючую сумку и потащат её с апельсинами и припрятанной пачкой сигарет, измученному раком, мужу Петру, у которого в ту же ночь неожиданно остановится сердце. А ещё позже те же цепкие пальцы, её, никогда не читавшей, будут жадно листать ту же книгу – искать и искать в ней что-то…, но не найдут… потому что — не время. Придёт время, и кто-то другой откроет эту книгу; остановится на той затёртой до дыр странице, на том же абзаце, на той же фразе.
Но всё это позже, а сейчас под капюшоном ангела — белый снег, похожий на свет, возвестивший о празднестве Перехода; о том, что им нужно лететь с этим небесным снегом, летящим вверх:
«Знать бы …, сколько там …у них теперь придётся платить за Свет?»
.13. 03. 2012г.
****
Цветок декабриста
«Если ваш лифт уже ушёл…,
может быть , это был не ваш лифт…»
В мойке, кофейный пепел, на окне – скорченный цветок.
Пётр Матвеевич верит, что цветёт он раз в сотню лет. Он и цвёл как умалишенный, пока не ушла Зоя, потом сдался и умер, и Семёнов так не смог его выбросить. Пыль поднимает подсвеченные солнцем миры. К стенке пришпилены фотографии поездов и развилок: юной женщины в оранжевом жилете; её же, только старше — с ломом в руках.. Она держит его, как амазонка копьё и смеётся. На полке-будильник -кондуктор времени.
«Чухр-чух-чухххррр». -злятся колёса. –«Оо-оо—ии—ее» -. успокаивают их рельсы. «Прр-редъявите билетики! Вам, мужчина, в один конец, не проспите остановку!». Минутная тишина. Потом снова. «Чухрр-Ооо-иии-еее…» -«Колёса странно стучат — замечает кто-то. – будто поют». «В конце пути такое часто случается»- успокаивает кондуктор. Звуки, вибрируя, проходят сквозь стены, буравят мозг, скребутся в душу тёплыми лапами… «По-мо-ги-ииии мнееее»…
Он спит, шевеля губами, стремится поймать звуки песни, мотива? «В конце…, какого пути»; с трудом разлепляет глаза. Стрелки будильника, … путей, векторы в точке сна – 5. 25! «Ёлы-палы! Это кто ж с ранья хамит?» – кричит в абажур мужчина. Прилипшая муха на бахроме – последний урожай осени.
-А у хамки темброк ничего, альт, меццо?– пищит в ухо кто-то.
-Кто ты? -вздрагивает мужчина.– ввв…внутреннй голос?
-Уж точно не внешний!
-Вот кто жильцов на заре будит… Снишься, так тихо снись. –и снова проваливается в сон.
-Жилец тоже мне… Не сглазь, Семёнов! -пела не я, врать не стану. -шепчет голос. Звать –Лярвою, Ля-Рвой.., Рва…лей….
-Валей??? А к-которая пела, она …ка-кая?
-Многого хочешь.
-Это же сон, Валюх, ну, какая?
-Низкие духи мало что видят, но, надеюсь, не дылда; дылде плешь твоя в глаза сразу бросится, и … лучше толстуха!
-Это зачем?
-Где вокал размещаться будем?
«Аааа-иии-ееее» — доносится непонятно откуда
«Ну, точно: «Помоги мне, помоги мне» — вытягивает спящий Пётр Матвеевич,– как в фильме со Светличной. А халатик какой! А песня! И без халатика… Хороша… А эта всё мычит без слов, как немая»
-С немой и жизнь будет тихою. – вклинивается Ля-Рва.
«Может, певичка – малограмотная, приезжая, вот и мычит.» — Думает спящий.
-Они без столичных вывертов, только … плодятся. — Соглашается сущность.
Пётр Матвеевич смотрит на муху. Насекомое колыхается от сквозняка, и, кажется, вот-вот взлетит.
-Разбега тебе не хватило, полёта! Теперь всё изменится! Ширши ля фаму, Семёнов, что значит-есть голос- найдётся тело…
«Учёные, якобы, взвесили, сколько в нас грамм души.»-Мыслит Семёнов.
-Бре-ее-ед! – взрывается Рваля. -затаись , подслушай, откуда мотивчик! Вот он, источник звука, квартира, допустим, с тремя шестёрками; подкатишь :проездом, на лифте…, как бы случайно…, и на звонок большим пальцем- дзыньк! А там халатик с пуговкой перламутровой, а под ним –дама красоты обещающей; а ты, бритый с лосьоном, с ведром как с прикрытием!
-На даму-согласен, ведро-то зачем?-
-Для порядку «утро доброе! Вы У.К изучали? Издавать голосовые шумы можно со скольких до скольких? А она: «ой, простите, стены, знаете ли, виноваты. Дайте шанс исправиться.» — краснеет; вариант — бледнеет. А ты ей: «не бойсь, соседка, кой-что понимаем в операх…» И цветы из ведра под нос с небрежной галантностью.
-Насчёт цветов, ты, Валюша, загнула. Ноябрь на дворе, в кармане дыра, если только
занять?
-Хрен тебе кто одолжит… — хохочет сущность. — Поздно, Семёнов. Подари ей цветок …декабриста, чтоб ждала, когда зацветёт -долго, лет сто!
. Пётр Матвеевич видит свои запои, реально, как горы пустых бутылок, и содрогается. «Спасибо Зое, с того света вытащила!» Напев манит , только без слов, а слова в голове проносится. «Щасссс. И тебе помогут. Рваля, Рваля, Рвалентина.»
На днях в дверях лифта он еле разошёлся с объёмной спиной новой соседки; почти уткнулся в красный, дерзко пахнущий плащ, смешался и засопел. «Может, пташка она?» У Семёнова аллергия на женские ароматы: на все, кроме креозота, лосьона и … маминых пирогов. «Спина в красном» спросила: «Вам выше?» Нет, голос у толстушки совсем другой. Забыл, следом зашёл солидный мужик, приобнял, и они вышли на пятом. Если не она, то кто же мычал?
-А если это та стерва снизу, засёкшая, как ты мусор в окно выбрасывал?
«У той ещё муж повесился».-
-И ты бы повесился.
«Или …с балкона выпал?»
— Любой бы выпал!
«Стерва живёт двумя этажами ниже.»-
«Поо-оомоги мне»… Низко поскрипывает кто-то
-И что бабе не спится? –Возмущается Рваля.
-Ба-а-а-бе …- смакует Пётр Матвеич: первому долгому «баа-аа» трудно сопротивляться, и оно чуть не втягивает в себя всего Петра Матвеича. «Ба» второе – краткое, упругое, грубо отталкивает его от себя. -И почему … «бабе»?… — отчего-то обижается он, -«жен-щи- не».
-И ясен пень, не старой и не замужней! Стала бы она при своём на заре вокал разводить?!?
Это мысль словно наводит фокус, задействовав воображение Петра Матвеича. Он ужеразличает гладь шелковых простынь, каких у него отродясь, не было.
-Слева, допустим, ты, Семёнов, играющий загорелыми бицепсами; и не в труселях, а в боксёрках, а лучше, в стрингах….- Хихикает голос.
-Тьфу ты, что в бошку лезет!—
-Справа — холмящийся вожделеньем, с «феромонами тайны…
— Как в рекламе?
-Как у тебя, Петруша, женский такой рельеф!
«Э-эээ-ээх!»- он взбивает подушку, и, откинувшись на кровати, погружает ноги в заросли ковролина, как ставят на воду старые военные корабли. «Попылесосить бы….»В углу — арсенал сломанной техники. Звонок в дверь.
-Наша птичка протелепалась? Сейчас спросит «вас не разбудил мой вокал? Мы, простые оперные дивы привыкли петь на рассвете». Или… «так страшно одной в хрущовке! Может, бокал шампанского?»
Но за дверью — бледная девочка в длинном пальто.
-Чего тебе?
— Я цветок принесла.- и протягивает… цветок декабриста в синем кашпо, точно
такой.., как на его окне, но с расцветшим бутоном.
-Какой? Зачем? — в голове -мешанина.
-Расцвёл в день моего ангела. — улыбается девочка.
-Мне-то зачем…, у меня свой есть. Тебе, детка, должен твой папа цветок дарить.
— Он не может, его уже нет… —
Семёнову становится не по себе. Он замечает- на девочке не пальто, а простая рубаха до пят и тёмнота расступается. «Странно… Не рожденье, не именины, -день ангела!»
— И с…сколько тебе исполнилось?
-Семь было бы, если бы вы мою маму в больничку не отвезли! Что, вспомнили?– она поднимает глаза — два утра в проёме ночи. Нет, он не вспомнил, не было ничего, нечего вспоминать. – Возьми, папочка.
«Помоги… ииии мне, поппомоги»
Семёнов вскакивает весь в поту, летит в коридор,- включает свет, весь, везде: ночники, и люстры, и закопченную лампочку в туалете. «Где чёртов сонник? Зойку, смотри ж ты, припомнила. Надо же! Но откуда знает про бывшую? О чём это он? Сон это был, кошмар, нет никакой девчонки, и не было, он же в один в квартире: ни девчонки, ни Лярвы чёртовой…, ни песни! Нет…, песня была!
Лет восемь назад в той больничке бывшая жена Семёнова, Зоя, всего каких-то пару часов провела, и ничто его не заставит думать про эти часы. Жили бедно, а тут мать умерла — износили её пути. Зоя – студентка, а он…, а что он? Старше намного, работал, и что не родили? После, само собой, жена ребёночка захотела А больше ведь бог и не дал ни ему, ни ей; потом пошли его пьянки, и покатилось…, она и ушла.
. -Позвонить бы, спросить, как ей там, замужнем?
-И что ты ей скажешь?- Проявляется голос.
— Скажу — давно завязал…
-Скажи , что с тех пор как ушла, баб нормальных не встретилось на пути…
Пути расходятся. «а могла бы быть такая вот дочь лет семи» — « Стук колёс-«Чууухррр, чух-чухххр….» «Помоги мне»-требует кто-то. «Ничем не помочь, никому, особенно ему, тупик, приехали.».
Он падает на диван, проваливаясь в тряску вагонов, в развилки, в пути, в семафоры, в мирки облупленных станций. «Есть женщины в русских селеньях»… и в городах есть, у других, у кого-то и где-то, не здесь, не у него. Только б найти певунью. Это важно. Кому? Для чего? В его сне девочка с цветком, и мать в жилете путейца. «Нечеловеческая музыка».- Мать грозит ему пальцем: «Не подходи к железнодорожному полотну. Это может привести…, это приведёт…. Минздрав предупреждает…. Рельсы—шпалы-запоздылый, ваш поезд уже…. Чухххр-чухххр….»
Пару дней не работает лифт, и Петр Матвеевич карабкается пешком, глотает таблетки, сидит на ступеньках. Слушай-не слушай, ни звука — вымер подъезд. Ни мотива, ни голоса этой тва… Вали. Он падает на диван, и вдруг …заветный мотив. «Бегу…» — Пётр Матвеевич на лестнице. табличка-какое-то объявление, слова, к чёрту слова. , и лифт заработал…, …не бритый — не важно. Это недалеко, это откуда-то сверху. Кнопка вызова. Мотив приближается вместе с лифтом, он ближе, ближе.
«Попалась птичка, -из ниоткуда проявляется Лярва.- Щас встретитесь!»
Двери распахиваются — холодные металлические объятия-челюсти, и пустота, но где же лифт? Открытая-шахта. Пётр Матвеич слышит, как истираемые реле тросы,(так это тросы?)поют человечьими голосами: «Помоги мне, помоги мне».
Его окликают по имени: наверху мама, и дочка с зажженной свечой. «и кто ей дал спички?» «В День Ангела можно!» — кивает будильник. «Взять цветок… позвонить Зое»…. Мать возится со ставшей прозрачной, кабиной или вагоном? –
« Вот всё и выяснилось. Мама, мама, ты испечёшь пирог…, починишь лифт…» Лифт?!? Стрелки сжимают, да, говорила, не ставить ногу, рельсы до неба, лестница…». Он сможет, он всё исправит, и делает шаг наверх….
«Прр-редъявите билетики!» -поют тросы, стучат колёса. Сквозь завесу — Зойкин истошный крик . «Как же так, Господи? не жена…, и что…, он же не пил…, Петенька!» «В конце пути всё случается» -успокаивает кондуктор, или начальник станции…, или не важно кто… « Рельсы-рельсы-шпалы-шпалы, вниз-вверх» — «Чухххр-чухххр…. Ооооо-иии-ееееее»
В мойке-кофейный пепел…, на окне — новый бутон. Пыль поднимает подсвеченные солнцем миры.
****
Пусть будет «ОН»….
Нет, за тебя! Как ты смеёшься?!? И хватит уже обо мне, а что, жизнь, типа, удалась, тьфу-тьфу-тьфу. Да, Галка, прости, можно тебя, как в школе, ага. У тебя под Лондоном? Обалдеть! У меня — на Николиной.
Муж, дети, счастье банальное, сама знаешь – как там все счастливые семьи бла-бла одинаково. Вот твой — весь в инновациях; мой — в инвестициях , ага, по уши. Ну, что я тебе объясняю. Вот как-то так. Езжу на чём? На водителе, то есть, на двух — меняются. А что сама? Стараюсь особо не выделяться. Жизнь-то вокруг какая? Вот мы с тобой скоко, с выпускного не виделись – пока ты себе разъезжала — а я от не фиг делать всё писала-писала, бумагу марала — в стол, конечно, не скромничаю.
И что, что талант? За талант –легко! Чин-чин!
Как торкнет- нетленка – что могу что-то миру дать – так они у нас сразу все и забегают, пресса волну нагонит- раскручусь – сразу серией и издамся! Мой тоже, конечно, вложится – перспективу задницей чует! Подними листочек, пожалуйста. Не доверяю я электронике. И сразу просится перо к бумаге, минута и … а ты у меня ведь всё списывала. Там-тА-рам, и слова… чернилами текут. Щас детей даже клякс лишили, и я люблю от руки, по-старинке. Вот тут описание мужичка одного, зацени.Глаз-то как забестел! Как зовут? Да не важно. Пусть будет «он», ладно? Идея такая:
1 глава
«Его дом где-то там — с вечно старою мамой и тикающей, текающей …, да-да, утекающей от него жизнью. Рухлядь по стенам, но заметь чистые, отмытые с краской полы». Полы – метафора, не поймёшь. Дом. «Там у него всё — заросший репеем двор, первый кораблик в бутылке», он о море мечтал, «первая сигарета, и первая б…дь, баба, не баба — совсем девчонка; соответственно попадает по малолетке. Ещё не решила, рассказ, а может, роман. Талант, говоришь?
Суть в этих символах -как там, дворы-колодцы, уколоться и упасть на дно колодца, при чём здесь колодец? Эти полы, кораблик, не просто детали, бутылка особенно, чтобы не было мучительно, короче, за бесцельно прожитые. Кто ответит? Никто. Сам пока не готов. И, понеслось. Что дальше?
Так вот, мама драит и драит полы, да, как палубу. Из прошлого — только эти полы с отколупленной краской. Мне это важно. А этому раздолбаю всё что-то мешает туда вернуться.
И такой вопрос в никуда: «Зачем мать замыла ему дорогу?», да, домой.
2 глава, (или сцена)
Тут я не дописала, но будет крупно так-дом перекроенный, кто-то въехал, следы грязных ног, и ставшая меньше мама. В том-тои фишка, что больше не моет.
Дай прикурить.
Откуда знаю в подробностях? Хм, да был тут типок один, скорей прототип. Общались, навеяло. как-то у них проездом. А что море? В финале кораблик уплыл, бутылки осталась. А что детали, они повсюду: поездки, обрывки фраз, ну, что я тебе рассказываю?
Как тебе это: «с его плеч сползает любая сумка, с головы шапка, с рук сходит любая баба. Он плюётся, когда говорит, мычит, когда спит, хотя и не спит никогда». Совсем, что ли? Не сплю, конечно. Говорю же,навеяло
Я тут набросала: «он пахнет дешёвым парфюмом, иногда обманчиво дорого; пьёт, когда нервничает, а нервничает почти всегда; не пьёт под гипнозом, связанным, в коме, да, про морг я вычеркнула». Это я так, на будущее. Вот ты докопалась!
Давай за будущее! А освежить?
Ну, был он у меня как-то, и что? Жрал всякую дрянь, не с помойки, правда,- делился, я не о дряни, домашнюю-то еду? Дай лимончик. Спасибо. Пробовал. Да не о дряни я! Почему сразу бомж..Ну и жена,типа, стерва, не прописывает, да, по сюжету.
И что, что женат? Мне он кто? Не любовник, блин, не любовник, да, просто друг, дура, не гомик он! Почему сразу же импотент? Бабки? Работа? Вопрос.
А давай за бабульки выпьем — тебе не важно, а я выпью. Это ж не следствие — это рассказ, или роман, думаешь, фильм? Как покатит.
Пытался прорваться в бизнес, всюду- облом. Вроде семья, жена, дети, у меня об этом глава.
3 глава
Вот, послушай: «Его кредитная линия длинней линии жизни», блин, тут я выпендрилась: «протравлена на ладони службою падших ангелов….» Как на слух? Ничё? Сейчас у нас что? Поздняя осень; а у этого — затяжная зима. Или вот, из серёдки, когда вся хрень, всё плохое уже случилось: «На пороге — предчувствие денег, календарной весны…, ранней старости» и отбивка к Секретным …, ну, к Скалли и к Малдеру. Та-рам-пам-пам-пам-пам. Голос за кадром в нос как у Володарского: «Его пенсия где-то там, он где-то здесь, и эти двое могут не встретится». Да, это о старости. И музыка, в дрожь бросающая… на раз напишут, когда бабки подтянутся. Предварительно, с Журбиным. А что? Настреляем у олигархов. За олигархов не пью! Прости, ничего личного. Это я так, на будущее. Как ты смеешься?!? Где же это? Аааааа, вот.
За семью? Чуть позже.
4 глава
Мысль такая – сейчас всем не хватает любви. Круто?!? Почему сразу ему? Ей не хватает, да, этой стерве.
А давай «за любовь»! И тебе простого бабского счастьюшка!
Потому что надо ещё придумать страсть что ль какую и все сразу завяжется.
Измену? Ну, нет, он не такой, сказала же- женат на подруге. Не говорила? Я побледнела? Это от курева. Освежи!
А что сюжет? Крупно постель, иначе не снимут, но без интима.
А давай за постель! Это важно.
Я тебе не ответила? Новый взгляд, всё вскользь, межу строк. Добавить шторма, в смысле секса!? Тут надо думать. И программно за кадром: «общаться с ним – в удовольствие, дружить-в тягость, любить — в наказание». Может быть -во спасение. Это я о душе. О душе ближе к финалу. Да не о смерти!
А давай на посошок!
Как он на морду? Да ничё так! Хошь честно, урод уродом, но улыбка, если зубы, конечно, вставить, и глаза большие, когда трезвый, наверное. Он на бровях, на рогах когда — страшный, хамский, значительный. Я об этом дальше пишу. Подержи бокал:
«харизма его чудовищна» — да не о сексе, тебя прям заклинило! Чем связаны? Да ничем! У кого ещё такой есть? Кто он мне? И что ты чувствуешь? Почему сразу «мой»??? Послать его? Да легко! Какие события? Фильм не для всех, ну, книга, рассказ, на худой конец.
Спрашивай! Любит ли он детей? Да, больше чужих, но о своих не забывает, вижу по взгляду, помнит. Я как раз об этом дальше пишу. Вот: « с ним -легко, за него-страшно, без него-тошно».
Тебя тоже тошнит? Больше не пьём. Мы дошли до финала.
Финал
В финале везде бутылки, загаженные кем-то полы, были полы? Рефффрен, понимаешь, нет, не фамилия, и кораблик мечется в унитазе. Как тебе символ?
При чём здесь Джек Воробей? Дай сигаретку.
Быть идеальной противно: «Так они и жили- сначала у них ничего не было, а потом их обокрали». Не сюжет, анекдот это. Как ты смеёшься?!? Не здесь, не сейчас, Не познакомлю… Тебе что, совсем биг-бэн склинило?!? Почему сразу муж?
Муж-шмуш-шму-шму, -не слово, кличка собачья. По паспорту-не по паспорту, а по барабану, как там в горе и…, а хотя бы и в горе, и умереть в один день.
Это я так, на будущее. Тсс, отвечу.
«Да, ра-ботаю, а, ты, видимо, от-ды-хаешь? По голосу видно. Мы опять никуда не едем? На море он хочет. Мычи внятней. Морду умой, прими лекарство, не это! Ну, хамло! Что? Размыло дороги? У твоей матери — годовщина! А за могилкой? Отложила, спрятала от тебя, не в доме, не во дворе, не у соседки. принесу бутылочку, не дури там, жди, скоро буду».
Обалдеть! Мать-покойница снова замыла ему дорогу! Я не о прошлом — о настоящем.
Как ты смеёшься?!?
Ну, всё, Галк, побежала, на гору эту, как её, на Николину…, да, водитель заболел, прикинь, оба. Как что –отзвоню, ага, первый экземпляр, и на премьеру само собой. Пока-пока, цулу, и твоего, и мелких.
Надо же — «муж»… И как она догадалась?
Ноябрь 2012.
****
Ведро
Пушенька – с виду самая обычная кошка: красивая, как пуховочка белая, тёплая, вкрадчивая…, но какая-то полудикая. Живёт себе в Баковке на стариковской даче. Днём спит, ночью охотится, а когда и котят нагуливает от соседских котов. Для того у неё свой лаз обустроен — калиточка, дедом врезанная в балконной двери мансарды. Хозяев-то до выходных целых семь суток ждать, шёрстку облизывать, гостей намывать.
Пуше корм и воду оставят — вот, дескать, твоя прожиточная корзина! Хошь — охоться, если слаще мышей что поймаешь; хошь – отдыхай. Летом, или на зимних каникулах, — дело другое. Тогда — вольготно и сыто: тогда Пушеньке и животик почешут, и усы убелят в сметанке, а то и поторошками побалуют.
Пуша – с виду обычная кошка. И котят у неё, как и положено, что пирожков — по полдюжины разом. Только зачем об этом знать маленькой Поле? – Волнуется Пётр Ильич во сне, с ужасом наблюдая за тем, как из бездонных недр ведра, подрагивая, всплывают, радужно-лёгкие, как мыльные пузыри — души нерождённых котят. — Да…, именно «не рождённых», а не…«убиенных», или « утопленных» — Доказывает кому-то Петр Ильич. Чей-то противный голос талдычет в его старое, мшистое ухо, что у животных нет души; что может…, вообще нет никакой души…. Нигде нет…. Но и, спящим, он никому не верит, боясь… и предположить, чей это голос. Тонко вскрикнув — старый сморщенный человек садится в постели. Грудь — в испарине, глаза бессмысленно шарят по комнате…
-Что с тобой, Петенька? – Спрашивает голова жены – этакий внедорожник на бигудях, пока тело дремлет. — В такую-то рань? – Хррр…. Но вот уже мотор храпа уносит Анну Ивановну, а в юности — его Анечку, по непроходимо-снежной кровати: вдаль… от него, родного, маленького, зябнущего рядом Петеньки… Всё тот же сон. То же жуткое, отупляющее чувство вины. Перед кем? Нет, больше он не поддастся! Да и кому?!?После карвалола дедушке станет легче. «Ну, какой я палач?» – Умиляется его второе «Я» почти с материнской нежностью. – «Герасим…, жертва обстоятельств, чистильщик, исполнитель» …- «…Чьей только воли?» – Не унимается первое. – «А, как же «не убий»? Мм-мда-аа, описочка вышла. Выходит, что вы, Петенька, исполнитель воли вашей дражайшей половины, Анны Иоа… Ивановны….»- На душе Пётра Ивановича мерзко. Он снова зябнет и ёжится. А мысли всё роят, и роят, будто кто в душе его роется: «А ведь этой оторве, Пушке-то нашей, снова на днях котиться! Так недавно ж топил, прости, Господи…», «Барсик, что ль, расстарался?»… «старая уже, сколько ж можно?! Прошляпили, а надо было вовремя стерилизовать. Как чёрное дело, так ему, (кайся — не кайся, причём, непонятно за что), а больше и некому». «И ведь по закону подлости непременно совпадёт с Новым Годом»!
За окном метель – бела и невинна плетёт и плетёт вьюны.
Его взгляд сонно скользит по календарю, упирается в красные загогулины с указующим острием 31-го; ужасается. Осталось три дня! Покупки, подарки…, уфф…., а ещё «Дед Мороза» готовить! Праздники пенсионеры ценят: чем меньше их впереди осталось, тем больше ценят; тем предвкушение слаще, да как в детстве.
Девочку в конце декабря родители привезут в Баковку, а сами — фьють, и как звали. Только нельзя их судить. У молодых нынче дел невпроворот, что им со стариками скучать?!? Другое дело — каникулы Полечки. Тогда – солнце в дом и вон хандру! Дед ёлку с пилорамы притащит, мишуры всякой, сладостей поразвесит. Баб Аня вся извернётся, настирает — вымотается, ноги больные в кровь исходит, а напечёт-наготовит и праздник соорудит — всем праздникам праздник! Пушка пуховкой белою охаживать — тереться будет, поесть выпрашивать ( не на себя одну). Дед с балкона в дом заберётся, в валенки впрыгнет; в шубу, под матрас тайно закатанную, влезет; шапку красную на плешь нахлобучит; бороду, (как без неё) присобачит намертво. Чем не Мороз?!? Полечка заметливая его так и этак рассматривать станет, за патлы дёргать.,в глазки заглядывать.Вот где главное — не проколоться.
А когда на ворох подарков отвлечётся, может спросить, где дед, и по какому такому указу-праву внучку не поздравляет? Тогда баб Анина очередь в уши дуть песенки -потешки, а ему потеть лезть в мансарду( тем же макаром), камуфляж скидывать, в постель бросаться- спит, типа, дедушка. И самое время баб Ане баюкать: говорила тебе — Деда Мороз настоящий был! Мы честные, мы не обманываем! Главное, чтоб ребёнок в хорошее верил! А у Анны Ивановны программа строгая, по часам. Когда есть, когда спать, играть, читать, дышать, (то есть гулять). Всё для ребёнка.
На этом его мысль снова теряется, и дед проваливается в свой сон, в бездонную глубь ведра, в черноту хаоса. А в первый раз как вышло? Приехали, а у Пушки таких — целый выводок, что тут сделаешь? Пришлось весь помёт оставить.., правда, больше такого не допускали. Так дед по вагонам и ходил, приплачивал, чтоб взяли…, только не очень-то брали.
Когда они затихали, Пётр Ильич вздыхал, крестился, представляя, как на дервенеющих ногах снова пойдёт к отцу Константину по длинной лесной дороге между косых дач и глухих высоких заборов, мимо ушедшей под землю речки; представлял, как тот возложит на его голову тяжёлый, как могильная плита, омофор, как в который раз отпустит всё тот же неискупаемый грех — нет, не тот же, новый, другой, следующий…
И снова будут : Христова кровь, святые частицы, и все эти верующие с обновлёнными, сияюще-умытыми, как после баньки, пасхальными душами- лицами.
Прощённые. Вот, мол, и твоя порция радости-очищения, разлюбезный Пётр Иваныч! Греши, только вовремя кайся! На том весь мир держится….
-Жаль, что котятки в животике по одному. – Рассуждает Полечка за обедом, рассеянно ковыряясь в пюре .
-По одному? Ну, да, конечно, к чему ей много? – Спохватывается Петр Ильич, — Это, детка, как у людей… — А сам следит, не догадалась ли, не выдал ли он себя? А Анна Иванна? Фу, ты, сколько ж волнений! Да нет, она-то не выдаст — стойкий разведчик, да и внучка не догадается.
-Жаль — Продолжает Полечка, подсовывая кошке плюшевого одноглазку-котёнка .-.А то Пушиной Пуне не с кем дружить. – Пётр Ильич только вздыхает, вспоминая, как недавно ещё, по осени носил котёнка на станцию, где жил один бобылём ,( у него ещё дочь умерла от гриппа). Так тот не взял, шерсти, говорит с неё не начешешься!
А дед кому мог, всем роздал, больше и отдать, вроде некому.
«У многих сейчас кошки породистые: свинксы ли, сфинксы вислоухие, голые, кошки, тьфу, язык сломаешь…» Потом вспомнил – пивная есть за мостом, а после кружки каждый добреет, к тому же — мыши там, крысы разные… догляд нужен. И, то, правда, рыбное оказалось место – мальца чуть с лапами не оторвали, а дед креветок попробовал.
А в последний раз вот что вышло: перед родинами кошка себе местечко в мансарде высмотрела в ящике старого секретера: там барахло бабка хранила всякое-Пушка как-то залезла, да так угнездилась — не выгнать.
«Пусть понежится» — решил Пётр Ильич, а когда она окотилась, то не стал внучке рассказывать ,(хорошо, врать не надо) – но одного , как всегда оставил. Последыш тот хиленьким оказался. Тогда загадал дед — не выживет, он всю правду как есть расскажет! К вечеру заглянул – так и есть — помер. Посерел лицом Пётр Ильич, но сделал всё незаметно, как не бывало, схоронил. Сел на стул, и часа четыре сидел как мёртвый. Ни таблетки, ни нашатырь не взяли, в скорую уж звонить хотели. Вдруг сам собой очнулся, да и жена тормошит: «С Пушкою у нас совсем не того, мяучит она как-то странно, будто наверх зовёт».
-Это от горя. – еле бормочет. – У них своё горе тоже имеется.
Тут и Поля не унимается. Не знает ведь ничего, а теребит.
-Пойди, посмотри, деда, не принесла Пушка котёночка? Глянь, как шёрстка висит — и животика нету. —
-За мной — никому – наказывает дед, — а сам — наверх.
Впереди Пушка идёт и орёт, на старика озирается. Вспорхнул юнцом на чердак , выдвинул ящик — пусто. – Кого ищешь, глупая? Всех я, стало быть, угробил! – Скрипит зубами Пётр Ильич, за сердце хватается.
А жена и внучка снизу кричат, волнуются « как там и что».
Пуша хвостом — пуховкой по руке стариковской ведёт, вроде как направляет, « здесь посмотри». Прислушался…, писк слышен сдавленный, или снова мерещится? Копнул бельё для очистки совести, ба…, а там — Батюшки светы, слепой, как положено, но живой — белый, как Пуша котюня- а на головке чёрная шапочка, как у Барсика с дач соседских.
-И как я тебя проморгал? И же ты не задохся? –
Хороший был у них Новый Год, настоящий, и дети нашли время, приехали, и Дед Мороз настоящий был, и подарки! Но главный подарок, ивой котёнок. Мальчиком оказался, Пухом назвали.
А Пётр Ильич больше котят не топил, и ведро ему чёрное перестало сниться, и голоса пропали сами собой. То ли обычное совпадение , то ли что другое…, но и кошка больше с животиком не ходила. Наверное, отрожала она своё, хотя стариков баковских ещё долго радовала.
Ведь Пуша – самая обычная кошка, как пуховочка белая-вкрадчивая, тёплая…, и вовсе не дикая, ведь теперь у неё есть ради кого жить.
А что? Главное, чтоб ребёнок в хорошее верил.
Надежда Плахута
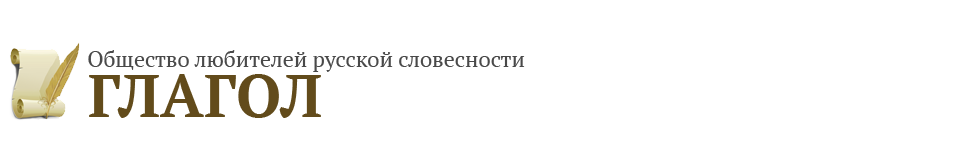

 (3 votes, average: 4,00 out of 5)
(3 votes, average: 4,00 out of 5)