О лирических сюжетах Пушкина в стихотворениях Анны Ахматовой

Пушкинские реминисценции в поэзии Ахматовой — тема необъятная. Общая обращенность Ахматовой к Пушкину, принципиальная многослойность ее поэтического слова, склонность к «тайнописи» создают психологические предпосылки к тому, что почти каждый стилистический оборот может дать основания для поисков «заимствования»1.
Значительно суживает сферу исследования установка не на отдельные «осколочные» образы, полисемантичные по самой своей природе (и связанные с целым созвездием литературных имен2), а на те художественные факты, когда Ахматова воспроизводит целостный смысл пушкинского стихотворения, его лирический сюжет3. Воспроизводит с тем, чтобы увидеть пушкинское открытие по-новому.
Реминисценция у подлинного художника всегда диалогична. Но апелляция к целостному смыслу произведения возводит поэтическую перекличку на уровень художественного «спора», противоположения жизненных позиций.
Спор такого рода в стихах Ахматовой может быть явным, декларативно-подчеркнутым, либо скрытым, внешне чуть обозначенным. Первый случай требует от исследователя сугубой осторожности: создательница «Поэмы без героя» не чуждалась пушкинской лукавой игры с излишне простодушным читателем.
Думается, присутствие такой игры не учитывается при традиционном восприятии ахматовской «Царскосельской статуи». Стихотворение обычно читается как прямой разговор с Пушкиным. Нет ли здесь, однако, своего рода аберрации, ошибки зрения?
Всмотримся заново в знакомый текст:
Царскосельская статуя
Н.В.Н.
Уже кленовые листы
На пруд слетают лебединый,
И окровавлены кусты
Неспешно зреющей рябины,
И ослепительно стройна,
Поджав незябнущие ноги,
На камне северном она
Сидит и смотрит на дороги.
Я чувствовала смутный страх
Пред этой девушкой воспетой.
Играли на ее плечах
Лучи скудеющего света.
И как могла я ей простить
Восторг твоей хвалы влюбленной…
Смотри, ей весело грустить,
Такой нарядно обнаженной.4
Стихотворение отчетливо «вторично». Оно рассчитано на эффект непременно сопряжения с одноименным пушкинским и уже поэтому не повторяет того, что было сказано там. Исчез сюжет превращения девы в изваяние — ситуация, переносящая к началу времен, когда быт был естественным подножием искусства, а мгновение плавно перетекало в вечность. Исчез и самый символ вечности — неиссякаемая струя5. Все совершается в мире людей, далеко ушедших от золотого века.
Открывает стихотворение пейзаж, выдержанный в импрессионистической марнере, — избирательно-детальный, динамичный, с яркими пятнами субъективно поданного цвета («И окровавлены кусты / Неспешно зреющей рябины»). Статуя входит в картину как нечто сопряженное с нею («на камне северном», «смотрит на дороги») и одновременно отдельное, отличное. Ее изысканное совершенство не гармонирует с духом тихой северной красоты. Взгляд отстаненно-жесткий, непрощающий, женский. Но если сопоставить его с мнением современного искусствоведа, обнаружится показательная близость позиции.
«Образ юной молочницы Перетты, — пишет А. Петров, — антикизирован и говорит о стремлении скульптора к идеальной, отвлеченной красоте. Отсюда — характерные для скульптуры классицизма изысканная поза «Девушки с разбитым кувшином» и условность в передаче чувства глубокой печали»6.
Итак, «отвлеченная красота», «изысканная поза», «условность» печали — суть, следовательно, не только в ревнивой пристрастности лирической героини Ахматовой. Ее реакция обостряет некие общие черты восприятия человека нового века — аналитизм, недоверие к декларатичности, требование строгой «оплаченности» слова и жеста. Последнее особенно весомо, если учесть, что исходит оно от той, кто уже стяжала известность мастера изображения женской души. Женская стихия (не отгороженная от общечеловеческого, не по-своему его преломляющая) воплощена в «Царскосельской статуе» во всей ее естественной сложности7. Силы тут не раздять со слабостью; истины не отделить от несправедливости. Лирическая героиня видит традиционно-установленное по-новому остро, но столь же проницательно отмечает и причину собственной зоркости. Это — зависть к «сопернице»: И как могла я ей простить/ Восторг твоей хвалы влюбленной… — самооправдание звучит как самообвиние. Парадокс указывает на первоначальный толчок, психологическую первооснову переживания. Здесь перед заключительным point’ом -эмоциональное острие вещи. Отсюда же — законность вопроса, которым мы предварили анализ: кто в данном случае стоит за лирическим «ты»? с кем говорит лирическая героиня?
По привычно установившемуся мнению — с Александром Пушкиным8. Почва для него -недоброжелательное отношение Ахматовой к Наталье Николаевне и вообще к пушкинским женщинам (особенно сказавшееся в работе «Гибель Пушкина»). Факт этот, однако, при видимой его убедительности, вряд ли можно считать корректным аргументом: он лежит в сфере биографии, а не поэзии. У Ахматовой же, как заметила Л.Я. Гинзбург еще в двадцатые, — в лирике «ничего нутряного, ничего непросеянного»9.
Взгляд, свободный от заранее принятой установки, обнаруживает в тексте «Царскосельской статуи» нечто неожиданно-простое. Здесь нет семантики разговора с Пушкиным. Финальная реплика обращена не к тому, кто написал прославленное четверостишие:
Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;
Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.10
Эту замедленно текущую речь, даже при весьма ограниченной точности (а у Ахматовой, по выражению Л.Я. Гинзбург, — «точность всеобъемлюща»11), — нельзя определить словами: «восторг твоей хвалы влюбленной». Нет здесь не только любви, но и сколько-нибудь явного личностного взгляда. Его чуждается жанр «надписи» — форма, призванная воссоздать эпическое состояние мира.
Пушкинская «Царскосельская статуя» — образец «сверхлирики». Ахматовская — лирична в современном смысле, то есть сугубо личностна. Сказывается это в самом способе подачи лирического «я». У Ахматовой оно входит в стихотворение неожиданно (лишь в начале третьей строфы), резко переключая на себя внимание, занятое внешними картинами. Еще большую степень личностной выявленности дает финальная строфа. Условная речь обретает здесь статус звучащего слова. Монолог взрывается диалогом.
Сила энергии, высвобождающейся при этом толчке, такова, что в направлении речевого жеста почти видится реальный собеседник. Ударный финал отбрасывается к началу вещи (эффект, обычный при чтении стихов), к посвящению Н.В.Н. Так «проступает» едва намеченный облик спутника героини — того, кто отдал бронзовой красавице «восторг» «хвалы влюбленной». Раскрывается во всей полноте присущих ему смыслов и само это выражение. Влюбленность здесь — высшая степень восхищения прекрасным. Напомню в этой связи пушкинское, раннее:
Блажен, кто знает сладострастье
Высоких мыслей и стихов!
Кто наслаждение прекрасным
В прекрасный получил удел
И твой восторг уразумел
Восторгом пламенным и ясным.
«Жуковскому», 1818 г. (I, 298)
Или — позднее:
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья
«Из Пиндемонти», 1836 г. (III, 336)
В обоих случаях, по Пушкину, «восторг» — чувство, родственное наслаждению красотой; его внушает созерцание вдохновенных творений искусства.
Это проясняет нечто главное в образе «собеседника» лирической героини Ахматовой. Он -поклонник прекрасного, знаток и ценитель искусства12. Уточняется и смысл ревнивой обиды героини: женщине недостает той поэзии преклонения, которой щедро награждается неживая красота.
Присутствие образа «посредника» в ахматовском стихотворении позволяет почувствовать его «объемность». Раздвигается не только пространство, но и время. Собственно к Пушкину в тексте относится лишь одно слово — «воспетой». С ним связана глубина временной перспективы — плюсквамперфект действия. «Восторг твоей хвалы влюбленной» — прошлое, вплотную придвинутое к настоящему. Финальная реплика — сиюминутное настоящее.
Временная динамика — проявление органического ахматовского историзма. «До странного личное отношение к Пушкину» (Л.Я. Гинзбург) при условии такого историзма великолепно совмещалось с чувством дистанции. Ахматова, в отличие от некоторых своих современников, никогда не создает ситуации разговора с Пушкиным. Не исповедуется ему (как молодая Цветаева). Не болтает с ним «свободно и раскованно» (как Маяковский). Не мерится славой (как Есенин). Вообще не помещает себя с ним в один кадр.
Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных грустил берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.
(I, 24)
Перевал столетия для автора этих строк так же непреложен, как и невероятный факт бытия «смуглого отрока».
Соотнесенность полюсов «тогда» и «теперь» всегда присутствует в подтексте обращения Ахматовой к пушкинским лирическим сюжетам, — даже если эти сюжеты лежат в сфере вполне интимных, «вечных» человеческих переживаний.
Как «продолжение» пушкинского лирического сюжета строится и другое стихотворение, посвященное Н.В.Н., — «Есть в близости людей заветная черта…». Сопряженность с пушкинским текстом здесь (в отличие от «Царскосельской статуи») не акцентирована. Автор рассчитывает на читателя, способного расслышать цитату. Стихотворение открывает вариация одной из строк элегии «Под небом голубым страны своей родной…». Зачин в лирике — эквивалент названия. Реминисценция, введенная в зачин, воспринимается как сигнал общей ориентированности вещи на определенный «образец»13.
Пушкин:
Под небом голубым страны своей родной
Она томилась, увядала…
Увяла наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала;
Но недоступная черта меж нами есть.
Напрасно чувство возбуждал я:
Из равнодушных уст я слышал смерти весть
И равнодушно ей внимал я.
Так вот кого любил я пламенной душой
С таким тяжелым напряженьем,
С такою нежною, томительной тоской,
С таким безумством и мученьем!
Где муки, где любовь? Увы! в душе моей
Для бедной, легковерной тени,
Для сладкой памяти невозвратимых дней
Не нахожу ни слез, ни пени.
(II, 297)
Ахматова:
Н.В.Н
Есть в близости людей заветная черт»,
Ее не перейти влюбленности и страсти, —
Пусть в жуткой тишине сливаются уста
И сердце рвется от любви на части.
И дружба здесь бессильна, и года
Высокого и огненного счастье,
Когда душа свободна и чужда
Медлительной истоме сладострастья.
Стремящиеся к ней безумны, а ее
Достигшие — поражены тоской…
Теперь ты понял, отчего мое
Не бьется сердце под твоей рукою.
(I, 83)
Поставленные рядом, стихотворения могут быть прочитаны в контексте единой поэтической мысли, проходящей как бы через два фазиса. Пушкина занимает уникальный душевный опыт. Ахматову — закон бытия, с вершины которого открывается понимание собственной трагедии. Предыстория ситуации при таком подходе не актуальна: первые четыре строки элегии в стихотворении никах не отразились. Схождение начинается со строки, намечающей смысл психологического конфликта. Пушкинское: «Но неприступная черта меж нами есть» претворяется в ахматовское: «Есть в близости людей заветная черта». Факт переведен в категорию жизненного закона. Если учесть это различие (изначально слитие со сходством), обнаружится параллельность линий развития поэтической мысли.
В обоих стихотворениях за утверждением власти «черты» следует обращение к сферам, противостоящим отчуждению. Для Пушкина это недавняя любовь «с ее безумством и мученьем», Для Ахматовой — состояния общие: страсть, дружба, «года высокого и огненного счастья». Все это, однако, не может отменить заданного: душевный холод необратим.
Последние стрелки стихотворений сходны даже грамматически. У Пушкина: «Не нахожу ни слез ни пени.» У Ахматовой: «Не бьется сердце под твоей рукою». Категоричность отрицательных глагольных конструкций дает ощущение полной исчерпанности ситуации. Завершение абсолютно. Хотя смысл его в каждем из произведений свой — обусловленный избранным ракурсом мысли. В пушкинском стихотворении — речь о себе. В ахматовском — о людях, с резким переходом в интимный план в конечном point. Сохраняя связь с Пушкиным как определяющую установку, Ахматова в то же время тяготеет к поэтике пушкинского современника — Евгения Баратынского14. Особенно в период «Белой стаи» — книги, отразившей переход от эмоциональной непосредственности первых сборников к поэзии итогов и обобщений. Перелом такого же типа пережил в свое время Баратынский. Известный в молодости любовными элегиями, он стал в годы зрелости «элегическим поэтом современного человечества» (по словам Н.А. Мельгунова). Почвой его скорбных раздумий оказалось чувство несовместимости «общего закона» и живых потребностей живой души.
Личностное и надличностное для Ахматовой в «Белой стае» — два уровня постижения жизни и одновременно две ее стихии. Их присутствие небесконфликтно. В стихотворения «Есть в близости людей заветная черта…» оно определяет слом финала — от строгого обобщения к откровенной интимности. Художественный смысл построения этого типа подробно разъяснен В.В. Виноградовым. «… Риторическое философствование, — пишет он, — внезапно теряет свой всеобщий характер и оказывается лишь особым стилистическим приемом выражения лично переживаемых, данных теперь эмоций. Общие сентенции тогда получают непривычно острые эмоциональные «венчики», окружаются смутным роем «побочных представлений и эмоций», которые текут от заключительных «личных» строк»15.
Динамика восприятия стихотворения воспроизведена в этих словах очень точно. Возражения вызывает только несколько усиленный (в духе опоязовской поэтики) акцент на понятии «прием». Эффекты отточенного мастерства у Ахматовой призваны передать душевную истину. Поэтесса не прячет интимности под внешним слоем «риторического философствования» Ей равно необходимы оба начала — слагаемые единого пути познания.
Образ финала может быть истолкован в духе чистой эротики («медлительной чстомы сладострастья»)16. Думаю, однако, что такое прочтение было бы суживающе-буквальным. Душевное у Ахматовой обычно выражается в пластике жеста, но никогда не сводится к внешнему выражению.. «Не бьется сердце под твоей рукою» — пластический образ любовной близости, но одновременно и символ, уходящий вглубь многовековой традиции. Он основывается на традиционной метафоре смерти. Отсюда — расширенный смысл интимного финала. Причем расширение это такого рода, при котором возникает принципиальное обновление образа.
Традиционная антитеза любви и смерти в поэзии Ахматовой встречается постоянно. В первых17 сборниках (особенно в «Вечере») она, как правило, вполне конкретна: речь идет о физической смерти, завершающей трагический роман. В отличие от этого извечного мотива, стихотворение «Есть в близости людей заветная черта…» говорит не о несчастной любви, а об ограниченности любого человеческою чувства. Смерть здесь — результат болезни нового времени, холода отчуждения. В девятнадцатом веке эта болезнь была уделом немногих. В двадцатом — стала угрозой дли всех. Хотя в полной мере осознается эта угроза лишь некоторыми.
Н.В. Недоброво в статье, высоко ценимой Ахматовой, указал на необычное свойство ее поэтической личности. «Другие люди, — пишет критик, — ликуют, падают, ушибаются друг о друга, но все это происходит здесь, в середине мирового круга, а вот Ахматова принадлежит к тем, что дошли как-то до его края — и что бы им повернуться и пойти обратно в мир? Но нет, они бьются мучительно и безнадежно у замкнутой границы, и кричат, и плачут.»18
«Заветная черта» стихотворения Ахматовой — подобие такой «замкнутости». Поэт стоит у пытается заглянуть за горизонт. Ахматова как бы продолжает путь познания, начатый психологическим опытом пушкинской элегии. Она из тех, что стремятся освоить все отпущенное человеку духовное пространство за это стремление гибелью.
Образы смерти в стихотворениях, будучи соотнесенными, создают впечатление противонаправленности поэтической мысли в целом.
В элегии факт смерти задан уже в предыстории. Все остальное — его следствие (хотя и неожиданное). Мысль, рожденная толчком конкретного события, постепенно наращивает обобщенность — не в плаче философских выводов, а за счет накопления фактов, дающих чувство итога.
У Ахматовой общий итог формулируется сразу. Смерть (метафорическая) являет собой его результат. Интимная тональность финала контрастирует с внеличиым зачином. Стихотворение, таким образом, не только «прорастает» из пушкинского, но как бы движете» ему навстречу.
Этот «зеркальный» эффект, пока еле уловимый, станет отчетливо конструктивным в более поздних произведениях Ахматовой. Для нашей темы важно одно из них — «Новогодняя баллада».
Стихотворение это у Ахматовой — среди самых значительных (оно стоит в истоке «Поэмы без героя»19). Но его глубочайшая содержательность не явлена как некий рациональный смысл. Она скорее ощущается, чем осознается. Ощущается как поражающая воображение яркость, загадочность, «тайнопись».
Восприятие неслучайное. Его подсказывает «память жанра» и, в частности, прямая авторская установка на нее — акцент названия. Балладная традиция позволяет строить повествование, не связанное необходимостью реальных мотивировок. Высвечено локальное условное пространство (фольклорная «горница»), где совершается похожее на жизнь, но неживое действо:
Новогодняя баллада
И месяц, скучая в облачной мгле,
Бросил в горницу тусклый взор.
Там шесть приборов стоят на столе,
И один только пуст прибор.
Это муж мой, и я, и друзья мои
Встречаем новый год.
Отчего мои пальцы словно в крови
И вино, как отрава, жжет?
Хозяин, поднявши полный стакан,
Был важен и недвижим:
«Я пью за землю родных полян,
В которой мы все лежим!»
А друг, поглядевши в лицо мое
И вспомнив Бог весть о чем,
Воскликнул: «А я за песни ее,
В которых мы все живем!»
Но третий, не знавший ничего,
Когда он покинул свет,
Мыслям моим в ответ
Промолвил: «Мы выпить должны за того,
Кого еще с нами нет».
(I, 169)
Ирреальная эта картина, на первый взгляд, очень далека от мира пушкинской поэзии. Автор «Руслана» и «Онегина» относится к балладной поэтике иронически-отчужденно, а у Ахматовой же тон и колорит «черной» баллады выдержаны со строгой серьезностью. Здесь и месяц, романтический свидетель чудес, и герои-мертвецы (что становится ясным не сразу — эффект, типичный для баллады), троичность событий и — главное- атмосфера все пронизывающей роковой тайны.
Однако именно по гребню этого главного проходит грань, отделяющая стихотворение от балладной классики. Вопреки законам жанра, тайна не получаст разрешения в пределах текста. Не разгадывается, поскольку представляет явление не сюжетного, а лирического (частью даже биографического) порядка.
Как и «Библейские стихи», «Новогодняя баллада» — опыт эпического воплощения глубинно-личностных пластов души автора. В подоснове условного действия — память о веренице человеческих потерь, предчувствие обреченности «очередного», боязнь собственного провидения-силы, «наводящей» удары судьбы20. Этот лирический подтекст сближает «Новогоднюю балладу» с одним из самых скорбных пушкинских созданий -стихами на лицейскую годовщину 1831 г.:
Чем чаше празднует линей
Свою снятую годовщину,
Тем робче старый круг друзей
В семью стесняется едину.
Тем реже он; тем праздник наш
В своем веселии мрачнее;
Тем глуше звон заздравных чаш
И наши песни тем грустнее…
Шесть мест упраздненных стоят.
Шести друзей не узрим боле.
Они разбросанные спят —
Кто здесь, кто там на ратном поле,
Кто дома, кто в земле чужой,
Кого недуг, кого печали
Спели во мрак земли сырой,
И надо всеми мы рыдали.
И мнится, очередь за мной…
(III, 215-216)
Пушкинские стихи ко дню Лицея, как бы они ни строились, по изначальной установке -застольные здравицы. В этом, однако, здравицу вытесняла «песнь почившим». Веселье омрачено: мертвые незримо присутствуют на пире («шесть мест упраздненных стоят…»); «смерти дух» выбирает следующую жертву.
Ситуация эта, близкая Ахматовой в силу обстоятельств ее собственной жизни, получает в ее стихотворении зеркально-перевернутое отображение. В «Новогодней балладе» пируют мертвые. Но говорят здесь о том, что оставлено в мире живых. Призрачное бытие обращено к этому миру в той же мере, в какой пушкинский «праздник» открыт «бездне мрачной». Родство этих основополагающих моментов определяет глубинную общность строя произведений, — общность, осуществляющуюся вопреки различию форм повествования.
В обоих стихотворениях по пять строфических единиц; поэтическая мысль подается в естественном логическом членении, — не педалированном, но легко распознаваемом. Первые две строфы — экспозиция: обозначены время, место, суть происходящего. При всем несходстве обстановки, в «Новогодней балладе» уже на этой стадии лирического сюжета прослеживаются знаки близости к пушкинскому стихотворению. Не реминисценции в точном смысле (как повтор словесных комплексов), но единство неких понятийных центров. Их два: образ дружеского круга (пушкинское «старый круг друзей»; ахматовское «муж мой, и я, и друзья мои») и ощущение временной границы («святая годовщина», «новый год») — рубежа, на котором итожат прошлое, загадывают о будущем.
Двойной этот процесс и составляет содержание остальных строф. В пушкинском стихотворении они слиты теснее, чем в ахматовском. Послание (назовем его так с некоторой долей условности) разворачивается как единое высказывание лирического «я». Баллада включает в себя речи нескольких лиц. Но эта расчлененность во многом результат того, что поэт нового времени вторично и по-своему проходит по вехам, намеченным пушкинской мыслью. Проходит, «проявляя» главные ее узлы.
Важнейшие образка послания, широкие, теряющие границы размывающем их лирическом потоке, у Ахматовой «Стягиваются» до словесных формул, декларированных и сопоставляемых. Такой образ в третьей строфе Пушкина — «мрак земли сырой», общий приют для всех, что «разбросанные спят — / Кто здесь, кто там на ратном поле, / Кто дома, кто в земле чужой…» У Ахматовой ему соответствует тост «за землю родных полян, / В которой мы все лежим».
В четвертой пушкинской строфе центр — «Дельвиг милый, / Товарищ юности унылой, / Товарищ песен молодых, / Пиров и чистых помышлений…» А у Ахматовой — друг, славящий «песни», «в которых мы все живем».
Два тоста баллады противопоставлены (двойное противительное «а»); «земля» и «песни» дополняют друг друга как смерть и жизнь. Тема закрыта, развитие сюжета предполагает введение нового мотива. В послании на соответственном месте — аналогичный момент: завершение темы и переход к финалу.
Финал в обоих стихотворениях строятся как образ будущей встречи. У Пушкина — всех со всеми. У Ахматовой — с тем, неназванным, кого дожидается пустой прибор, к кому обращены помыслы героини, угаданные последним из говорящих. Концовка баллады обнажает внутренний стержень всего пушкинского стихотворения — вопрос, кому суждено стать очередной жертвой рока. По Пушкину — самому поэту. По Ахматовой — кому-то предельно близкому героине. Но кто бы ни был этот отмеченный «духом смерти», он уже начал гибельное свое движение. От пира живых — к пиру мертвых. Баллада, прочитанная как «зеркало» послания, не только обнаруживает свой глубинный смысл, — она дает возможность по-новому услышать пушкинский финал. Обычно его понимают как обещание реальной будущей встречи лицеистов. Вариант возможный, но не единственный. В него не «вмещается» замыкающая стихотворение ударная строка:
И новых жертв уж не страшится.
Поэт дарит друзей надеждой, неосуществимой в условиях земного бытия. Если принимать его слова не как утешительную отговорку, а во всей полноте заложенного в них смысла, образ привычной дружеской пирушки обретает особые черты. В нем угадывается смысл встречи загробной. Символ, опирающийся на давнюю традицию. Не углубляясь в се корни, отметим лишь то, что имеет непосредственное отношение к Пушкину.
Русская анакреонтика знала собственный рай — Элизий, загробную страну вечно пирующих мудрецов и счастливых любовников. Туда звал свою нежную подругу «философ резвый и пиит», молодой Батюшков:
Там, под тенью миртов зыбкой,
Нам любовь сплетет венцы,
И приветливой улыбкой
Встретят нежные певцы.21
Веселую встречу «за тайными брегами» обещает друзьям молодой Баратынский:
Наполним радостные чаши,
Хвала свиданью возгремит,
И огласят приветы наши
Весь необъемлемый Аид.22
Пушкин в 1825 г. напишет о таком запредельном свидании уже опосредованно, как о «мечтах поэзии прелестной». Согласно уверениям поэтов, тени умерших не забывают «покинутых друзей».
Они, бессмертия вкушая,
Их поджидают в Элизей,
Как ждет на пир семья родная
Своих замедливших гостей…
(III, 262)
Тайная грусть пронизывает эти строки. Она станет явной, когда жизненные утраты заставят поэтов пушкинского поколения по-иному увидеть мифы собственной юности. Баратынский после смерти Дельвига будто оспаривает давнее свое легкомыслие:
Не славь, обманутый Орфей,
Мне Элизейские селенья:
Элизий в памяти моей
И не кропим водой забвенья.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Там жив ты, Дельвиг! там за чашей
Еще со мною шутишь ты.
Поешь веселье дружбы нашей
И сердца юные мечты.23
Поздний Пушкин вообще не упоминает об Элизии. Но мысль о неиссякаемости добрых чувств как о духовном залоге бессмертия становится для него органически-естественной. Элегия «Для берегов отчизны дальной…» заканчивается словами:
Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой —
А с ними поцелуй свиданья…
Но жду его; он за тобой…
(III, 193)
Нечто похожее, думается, одушевляет и финал стихов о лицейской годовщине 1831 г. Скрытый смысл этого стихотворения не случайно «проступает» в соприкосновении с поэтическим миром Ахматовой. Больше, чем кто-нибудь из поэтов XX в., она — автор стихов о «беге времени» — знает чувство непреходящести каждого из великих мгновений бытия.
Жизнь произведения искусства означает, как известно, процесс приращения его художественного смысла. Уловить конкретные проявления такого процесса непросто. Обычно он протекает «анонимно», в формах, напоминающих фольклорное творчество. Обращение большого художника к сюжетам его предшественника — случай, когда приращение смысла осуществляется совершенно осознанно, целенаправленно — как акт индивидуальной творческой воли.
И.Л. Альми
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Примечания
1. Об «охоте за цитатами» в стихах Ахматовой см.: Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой. М., 1989.
2. Oб ориентированности реминисценции в стихах Ахматовой на несколько источников одновременно см.: Тименчик Р.Д. Ахматова и Пушкин. Заметки к теме // Пушкинский сб. Вып. 2. Рига. 1974. С. 32-33.
3. Понятие сюжета в лирике недостаточно разработано. Употребляю его в том смысле, который предложен Б.А. Грехневым. «Лирика, — пишет он, — замыкает сюжет пределами ситуации». (Грехнев В.А. Лирика Пушкина. Горький. 1985. С. 192.)
4. Ахматова А. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 95-96. Далее ссылки на это издание даются в тексте.
5. Р. Якобсон в статье «Стихи Пушкина о деве-статуе, вакханке и смиреннице» утверждает, что контекст второго дистиха «обращает мотив неустанного излияния в дурную, мертвенную бесконечность». (Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. С. 186.)
6. Петров А. Город Пушкин. Дворцы и парки. Д., 1977.
7. Интересно в этом плане замечание В.М. Жирмунского в работе «Преодолевшие символизм»: «Если поэзия символистов видела в образе женщины отражение вечно женственного, то стихи Ахматовой говоорят о неизменно женском». (Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Д., 1977. С. 121).
8. Наиболее отчетливо это мнение представлено в книге А.И. Павловского. Называя «Царскосельскую статую» одним из лучших стихотворений в поэтической пушкиниане, исследователь утверждает: «Не Ахматова обратилась к нему (Пушкину — И.А.) так, как только она одна и могла обратиться, — как влюбленная женщина, вдруг ощутившая мгновенный укол нежданной ревности. В сущности, она не без мстительности доказывает Пушкину своим стихотворением, что он ошибся, увидев в этой ослепительно стройной красавице с обнаженными плечами некую вечно печальную деву» (Павловский А.И. Анна Ахматова. Л., 1982. С. 18). вверх
9. Гинзбург Л.Я. Человек за письменным столом. Л., 1989. С. 47.
10. Пушкин А.С. Собр.соч.: В 10 т. Л., 1977. Т. 2. С. 171. Далее ссылки на это издание даются в тексте.
11. Гинзбург Л.Я. Указ. соч. С. 47.
12. В сборниках Ахматовой 1940 и 1958 гг. «Царскосельская статуя» печаталась с полным именем в посвящении Н.В. Недоброво. О его роли в творческий жизни поэтессы и о нем самом см.: Жирмунский В.М. Творчество Анны Ахматовой. Л., 1973. С. 42-43, 179; Тименчик Р.Д. Указ. соч. «Пушкинскими реминисценциями, — пишет Р.Д. Тименчик, — пронизаны все стихотворения Ахматовой, посвященные Недоброво» (С. 45); «Пушкинизм» Недоброво проникал до интимных глубин личности. Его письма к Ахматовой «написаны в стиле пушкинского времени» (Будыко М. Рассказы Ахматовой // Звезда. 1989. № 6. С. 81).
13. Сопоставление названных стихотворений одновременно с данной работой было сделано А. Жолковским в докладе, прочитанном на Ахматовских чтениях в ИМЛИ им. A.M. Горького в июне 1989 года (см. наст. об.) вверх
14. На близость Ахматовой Баратынскому указал Б.М. Эйхенбаум в работе «Анна Ахматова. Опыт анализа.» См.: Эйхенбаум Б. О поэзии. Л., 1969. С. 139.
15. Виноградов В.В. Избр. труды. Поэтика русской литературы. М., 1976. С. 438.
16. Именно так истолкован он А. Жолковским в указанной работе.
17. См. об этом: Виноградов В.В. «Поэзия Анны Ахматовой» // Виноградов В.В. Указ. соч. С. 131.
18. Недоброво Н.В. Анна Ахматова // Русская мысль. 1915. С. 64.
19. «Новогодняя баллада» цитируется автором в начале «Петербургской повести». Цитата отмечена специальной ссылкой. О смысле связи стихотворения с «Поэмой без героя» см. в предисловии Р.Д. Тименчика к публикации: Анна Ахматова. Отрывок из перевода «Макбета» // Лит. обозрение. 1989. № 5. С. 19.
20. Того же психологического корни стихи «Я гибель накликала милым…» (1921 г.).
21. Батюшков К.Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 342.
22. Баратынский Е.А. Полн. собр. Стихотворений. Библиотека поэта. Большая серия. Л., 1957. С. 66.
23. Там же. С. 148.
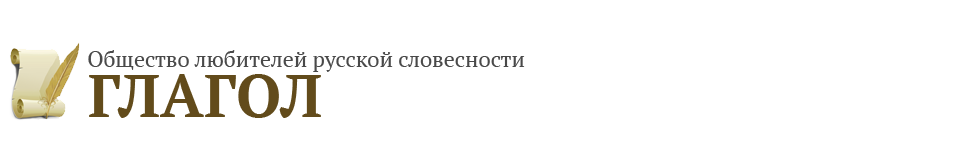

 (2 votes, average: 4,50 out of 5)
(2 votes, average: 4,50 out of 5)