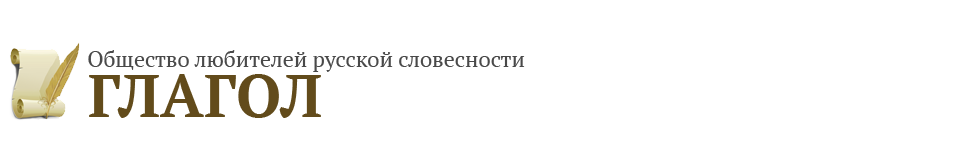Ф.М. Достоевский. Дневник писателя. Март.
ГЛАВА ПЕРВАЯ I. ВЕРНА ЛИ МЫСЛЬ. ЧТО «ПУСТЬ ЛУЧШЕ ИДЕАЛЫ БУДУТ ДУРНЫ, ДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ХОРОША»?
В «Листке» г-на Гаммы («Голос» Љ 67) я прочел такой отзыв на мои слова, в февральском «Дневнике», о народе:
«Как бы то ни было, у одного и того же писателя, на расстоянии одного месяца, мы встречаемся с двумя, резко противуположными друг другу мнениями по поводу народа. А ведь это ne водевиль, а картинка передвижной выставки: ведь это приговор над живым организмом; это всё равно что вертеть ножом в теле человека. Из своего действительного или мнимого противоречия г-н Достоевский выгораживается тем, что приглашает нас судить народ «не по тому, чем он есть, а по тому, чем желал бы стать». Народ, видите ли, ужаснейшая дрянь на деле, но зато идеалы у него хороши. Идеалы эти «сильны и святы», и они-то «спасали его в века мучений». Не поздоровится от таких выгораживании! Ведь и сам ад вымощен добрыми намерениями, и г-ну Достоевскому известно, что «вера без дел мертва». Да откуда же стали известны эти идеалы? Какой пророк или сердцевед в состоянии проникнуть или разгадать их, если вся действительность противоречит им и недостойна этих идеалов? Г-н Достоевский оправдывает наш народ в том смысле, что «они немножечко дерут, зато уж в рот хмельного не берут». Но ведь отсюда недалеко и до нравоучения: пусть лучше идеалы будут дурны, да действительность хороша».
В этой выписке всего важнее вопрос г-на Гаммы: «Да откуда же стали известны эти идеалы?» (то есть народные). Положительно отказываюсь отвечать на такой вопрос, ибо, сколько бы мы ни проговорили на эту тему с г-ном Гаммой, мы никогда ни до чего не договоримся. Это спор длиннейший, а для нас важнейший. Есть у народа идеалы или совсем их нет — вот вопрос нашей жизни или смерти. Спор этот ведется слишком уже давно и остановился на том, что одним эти идеалы выяснились как солнце, другие же совсем их не замечают и окончательно отказались замечать. Кто прав — решим не мы, но решится это, может быть, довольно скоро. В последнее время раздалось несколько голосов в том смысле, что у нас не может быть ничего охранительного, потому что у нас «нечего охранять». В самом деле, если нет своих идеалов, то стоит ли тут заботиться и что-нибудь охранять? Что ж, если эта мысль приносит такое спокойствие, то и на здоровье.
«Народ, видите ли, ужаснейшая дрянь, но только идеалы у него хороши». Эту фразу или эту мысль я никогда не высказывал. Единственно, чтоб оговориться в этом, я и отвечаю г-ну Гамме. Напротив, я именно заметил, что и в народе — «есть прямо святые, да еще какие: сами светят и всем нам путь освещают». Они есть, почтенный публицист, есть в самом деле, и блажен — кто может их разглядеть. Думаю, что у меня тут, то есть собственно в этих словах, нет ни малейшей неясности. К тому же неясность не всегда происходит от того, что писатель неясен, а иногда и совсем от противуположных причин…
Что же касается до нравоучения, которым вы кончаете вашу заметку: «Пусть лучше идеалы будут дурны, да действительность хороша», — то замечу вам, что это желание совершенно невозможное: без идеалов, то есть без определенных хоть сколько-нибудь желаний лучшего, никогда не может получиться никакой хорошей действительности. Даже можно сказать положительно, что ничего не будет, кроме еще пущей мерзости. У меня же, по крайней мере, хоть шанс оставлен: если теперь неприглядно, то, при ясно сознаваемом желании стать лучшими (то есть при идеалах лучшего), можно действительно когда-нибудь собраться и стать лучшими. По крайней мере, это вовсе не столь невозможно, как ваше предположение стать лучшими при «дурных» идеалах, то есть при дурных желаниях.
Надеюсь, что на мои несколько слов вы не рассердитесь, г-н Гамма. Останемся каждый при нашем мнении и будем ждать развязки; уверяю вас, что развязка, может быть, вовсе не так отдаленна.
II. СТОЛЕТНЯЯ
«В это утро я слишком запоздала, — рассказывала мне на днях одна дама, — и вышла из дому почти уже в полдень, а у меня, как нарочно, скопилось много дела. Как раз в Николаевской улице надо было зайти в два места, одно от другого недалеко. Во-первых, в контору, и у самых ворот дома встречаю эту самую старушку, и такая она мне показалась старенькая, согнутая, с палочкой, только все же я не угадала ее лет; дошла она до ворот и тут в уголку у ворот присела на дворницкую скамеечку отдохнуть. Впрочем, я прошла мимо, а она мне только так мелькнула.
Минут через десять я из конторы выхожу, а тут через два дома магазин, и в нем у меня еще с прошлой недели заказаны для Сони ботинки, я и пошла их захватить кстати, только смотрю, а та старушка теперь уж у этого дома сидит, и опять на скамеечке у ворот, сидит, да на меня и смотрит; я на нее улыбнулась, зашла, взяла ботинки. Ну, пока минуты три-четыре прошло — пошла дальше к Невскому, ан смотрю — моя старушка уже у третьего дома, тоже у ворот, только не на скамеечке, а на выступе приютилась, а скамейки в этих воротах не было. Я вдруг перед ней остановилась невольно: что это, думаю, она у всякого дома садится?
— Устала, — говорю, — старушка?
— Устаю, родненькая, всё устаю. Думаю: тепло, солнышко светит, дай пойду к внучкам пообедать.
— Это ты, бабушка, пообедать идешь?
— Пообедать, милая, пообедать.
— Да ты этак не дойдешь.
— Нет, дойду, вот пройду сколь и отдохну, а там опять встану да пойду.
Смотрю я на нее, и ужасно мне стало любопытно. Старушка маленькая, чистенькая, одежда ветхая, должно быть из мещанства, с палочкой, лицо бледное, желтое, к костям присохшее, губы бесцветные, — мумия какая-то, а сидит — улыбается, солнышко прямо на нее светит;
— Ты, должно быть, бабушка, очень стара, — спрашиваю я, шутя разумеется.
— Сто четыре года, милая, сто четыре мне годика, только всего (это она пошутила)… А ты-то сама куда идешь?
И глядит на меня — смеется, обрадовалась она, что ли, поговорить с кем, только странною мне показалась у столетней такая забота — куда я иду, точно ей это так уж надо.
— Да вот, бабушка, — смеюсь и я, — ботиночки девочке моей в магазине взяла, домой несу.
— Ишь махонькие, башмачки-то, маленькая девочка-то у тебя? Это хорошо у тебя. И другие детки есть?
И опять всё смеется, глядит. Глаза тусклые, почти мертвые, а как будто луч какой-то из них светит теплый.
— Бабушка, хочешь, возьми у меня пятачок, купи себе булочку, — и подаю я ей этот пятачок.
— Чтой-то ты мне пятачок? Что ж, спасибо, я и возьму твой пятачок.
— Так на, бабушка, не взыщи. — Она взяла. Видно, что не просит, не доведена до того, но взяла она у меня так хорошо, совсем не как милостыню, а так, как будто из вежливости или из доброты своего сердца. А впрочем, может, ей и очень понравилось это, потому что кто же с ней, с старушкой, заговорит, а тут еще с ней не только говорят, да еще об ней с любовью заботятся.
— Ну, прощай, — говорю, — бабушка. Дойди на здоровье.
— Дойду, родненькая, дойду. Я дойду. А ты к своей внучке ступай, — сбилась старушка, забыв, что у меня дочка, а не внучка, думала, видно, что уж и у всех внучки. Пошла я и оглянулась на нее в последний раз, вижу, она поднялась, медленно, с трудом, стукнула палочкой и поплелась по улице. Может, еще раз десять отдохнет дорогой, пока дойдет к своим «пообедать». И куда это она ходит обедать? Странная такая старушка».
Выслушал я в то же утро этот рассказ, — да, правда, и не рассказ, а так, какое-то впечатление при встрече с столетней (в самом деле, когда встретишь столетнюю, да еще такую полную душевной жизни?), — и позабыл об нем совсем, и уже поздно ночью, прочтя одну статью в журнале и отложив журнал, вдруг вспомнил про эту старушку и почему-то мигом дорисовал себе продолжение о том, как она дошла к своим пообедать: вышла другая, может быть, очень правдоподобная маленькая картинка.
Внучки ее, а может, и правнучки, да уж так зовет их она заодно внучками, вероятно, какие-нибудь цеховые, семейные, разумеется, люди, не то она не ходила бы к ним обедать, живут в подвале, а может, и цирюльню какую-нибудь снимают, люди, конечно, бедные, но все же, может, питаются и наблюдают порядок. Добрела она к ним, вероятно, уже часу во втором. Ее и не ждали, но встретили, может быть, довольно приветливо.
— А вот и она, Марья Максимовна, входи, входи, милости просим, раба божия!
Старушка входит, посмеиваясь, колокольчик у входа еще долго, резко и тонко звенит. Внучка-то ее, должно быть, жена этого цирюльника, а сам он еще человек нестарый, лет этак тридцати пяти, по ремеслу своему степенен, хотя ремесло и легкомысленное, и, уж разумеется, в засаленном, как блин, сюртуке, от помады, что ль, не знаю, но иначе я никогда не видал «цирюльников», равно как воротник на сюртуке всегда у них точно в муке вывалян. Трое маленьких деточек — мальчик и две девочки — мигом подбежали к прабабушке. Обыкновенно такие уж слишком старенькие старушки всегда как-то очень сходятся с детьми: сами-то уж очень они похожи на детей становятся душевно, иногда даже точь-в-точь. Села старушка; у хозяина не то гость, не то по делу, один тоже, лет сорока, знакомый его, уже уходить собирался. Да племянник к тому же гостит, сын сестры его, парень лет семнадцати, в типографию хочет определиться. Старушка перекрестилась и садится, глядит на гостя:
— Ох, устала! Это кто же такой у вас?
— Это я-то? — отвечает гость, посмеиваясь, — что ж, Марья Максимовна, неужто нас не признали? Третьего-то года по опенки в лес все собирались вместе с вами сходить.
— Ох, уж ты, знаю тебя, надсмешник. Помню тебя, вот только назвать как тебя не припомню, кто ты таков, а помню. Ох, устала я чтой-то.
— Да что ж вы, Марья Максимовна, старушка почтенная, не растете нимало, вот что я тебя спросить хотел, — шутит гость.
— И, ну тебя, — смеется бабушка, видимо, впрочем, довольная.
— Я, Марья Максимовна, человек добрый.
— Ас добрым и поговорить любопытно. Ох, всё-то я задыхаюсь, мать. Пальтецо-то Сереженьке видно уж состроили?
Она указывает на племянника.
Племянник, бутузоватый и здоровый паренек, улыбается во весь рот и надвигается ближе; на нем новенькое серое пальтецо, и он еще не может равнодушно надевать его. Равнодушие придет разве только еще через неделю, а теперь он поминутно смотрит себе на обшлага, на лацканы и вообще на всего себя в зеркало и чувствует к себе особенное уважение.
— Да ты поди, повернись, — стрекочет жена цирюльника. — Смотри-ка, Максимовна, какое построили; ведь шесть рублей как одна копеечка, дешевле, говорят нам у Прохорыча, теперь и начинать не стоит, сами, говорят, потом слезьми заплачете, а уж эдакому износу нет. Вишь материя-то! Да ты повернись! Подкладка-то какая, крепость-то, крепость-то, да ты повернись! Так-то вот и уходят денежки, Максимовна, умылась наша копеечка.
— Ах, мать, уж так теперь дорого стало на свете, что и ни с чем не совместно, лучше б и не говорила ты мне и не расстроивала меня, — с чувством замечает Максимовна, а всё еще дух не может перевести.
— Ну, да и довольно, — замечает хозяин, — закусить бы надо. Что это ты, должно быть, уж очень, вижу я это, пристала, Марья Максимовна?
— Ох, умник, устала, денек-то теплый, солнышко; дай, думаю, их проведаю… что лежать-то. Ох! А дорогой барыньку встретила, молодую, башмачки деткам купила: «Что это ты, старушка, говорит, устала? на-ка тебе пятачок: купи себе булочку…» А я, знаешь, и взяла пятачок-то…
— Да ты, бабушка, всё же отдохни маленечко сперва-наперво, что это сегодня так задыхаешься? — как-то вдруг особенно заботливо проговорил хозяин.
Все на нее смотрят; уж очень бледна она вдруг стала, губы совсем побелели. Она тоже всех оглядывает, но как-то тускло.
— Вот, думаю… пряничков деткам… пятачок-то…
И опять остановилась, опять переводит дух. Все вдруг примолкли, секунд этак на пять.
— Что, бабушка? — наклонился к ней хозяин.
Но бабушка не ответила; опять молчание, и опять секунд на пять. Старушка еще как бы белее стала, а лицо как бы вдруг всё осунулось. Глаза остановились, улыбка застыла на губах; смотрит прямо, а как будто уж и не видит.
— За попом бы!.. — как-то вдруг и торопливо проговорил сзади вполголоса гость.
— Да… не… поздно ли… — бормочет хозяин.
— Бабушка, а бабушка? — окликает старушку жена цирюльника, вдруг вся всполохнувшись; но бабушка неподвижна, только голова клонится набок; в правой руке, что на столе лежит, держит свой пятачок, а левая так и осталась на плече старшего правнучка Миши, мальчика лет шести. Он стоит не шелохнется и большими удивленными глазами разглядывает прабабушку.
— Отошла! — мерно и важно произносит, восклонившись, хозяин и слегка крестится.
— Ведь вот оно! То-то, я вижу, вся клонится, — умиленно и отрывисто произносит гость; он ужасно поражен и на всех оглядывается.
— Ах, господи! Вот ведь! Как же теперь быть-то, Макарыч? Туда, что ль, ее? — щебечет хозяйка торопливо и вся растерявшись.
— Куда туды? — степенно откликается хозяин, — сами здесь справим; родная ты ей аль нет? А пойтить дать знать надо.
— Сто четыре годика, а! — толчется на месте гость, умиляясь все больше и больше. Он даже весь покраснел как-то.
— Да, забывать стала жисть-то в последние годы, — еще важнее и степеннее замечает хозяин, ища фуражку и снимая шинель.
— А ведь за минуту смеялась, как веселилась! Ишь пятачок-то в руке! Пряничков, говорит, о-ох, жисть-то наша!
— Ну, пойдем, что ли, Петр Степаныч, — прерывает гостя хозяин, и оба выходят. По такой, конечно, не плачут. Сто четыре года, «отошла без болезни и непостыдно». Хозяйка послала к соседкам за подмогой. Те прибежали мигом, почти с удовольствием выслушав весть, охая и вскрикивая. Первым делом поставили, разумеется, самоварчик. Дети с удивленным видом забились в угол и издали смотрят на мертвую бабушку. Миша, сколько ни проживет, всё запомнит старушку, как умерла, забыв руку у него на плече, ну а когда он умрет, никто-то на всей земле не вспомнит и не узнает, что жила-была когда-то такая старушка и прожила сто четыре года, для чего и как — неизвестно. Да и зачем помнить: ведь всё равно. Так отходят миллионы людей: живут незаметно и умирают незаметно. Только разве в самой минуте смерти этих столетних стариков и старух заключается как бы нечто умилительное и тихое, как бы нечто даже важное и миротворное: сто лет как-то странно действуют до сих пор на человека. Благослови бог жизнь и смерть простых добрых людей!
А впрочем, так, легкая и бессюжетная картинка. Право, наметишь пересказать из слышанного за месяц что-нибудь позанимательнее, а как приступишь, то как раз или нельзя, или нейдет к делу, или «не всё то говори, что знаешь», а в конце концов остаются всё только самые бессюжетные вещи…
III. «ОБОСОБЛЕНИЕ»
А между тем я пишу «о виденном, слышанном и прочитанном». Хорошо еще, что не стеснил себя обещанием писать обо всем «виденном, слышанном и прочитанном». Да и слышишь-то всё больше странности. Как передавать их, когда всё это само собою лезет врозь и ни за что не хочет сложиться в один пучок! Право, мне всё кажется, что у нас наступила какая-то эпоха всеобщего «обособления». Все обособляются, уединяются, всякому хочется выдумать что-нибудь свое собственное, новое и неслыханное. Всякий откладывает всё, что прежде было общего в мыслях и чувствах, и начинает с своих собственных мыслей и чувств. Всякому хочется начать с начала. Разрывают прежние связи без сожаления, и каждый действует сам по себе и тем только и утешается. Если не действует, то хотел бы действовать. Положим, ужасно многие ничего не начинают и никогда не начнут, но всё же они оторвались, стоят в сторонке, глядят на оторванное место и, сложив руки, чего-то ждут. У нас все чего-то ждут. Между тем ни в чем почти нет нравственного соглашения; всё разбилось и разбивается и даже не на кучки, а уж на единицы. И главное, иногда даже с самым легким и довольным видом. Вот вам наш современный литератор-художник, то есть из новых людей. Он вступает на поприще и знать не хочет ничего предыдущего; он от себя и сам по себе. Он проповедует новое, он прямо ставит идеал нового слова и нового человека. Он не знает ни европейской литературы, ни своей; он ничего не читал, да и не станет читать. Он не только не читал Пушкина и Тургенева, но, право, вряд ли читал и своих, т. е. Белинского и Добролюбова. Он выводит новых героев и новых женщин, и вся новость их заключается в том, что они прямо делают свой десятый шаг, забыв о девяти первых, а потому вдруг очутываются в фальшивейшем положении, в каком только можно представить, и гибнут в назидание и в соблазн читателю. Эта фальшь положения и составляет всё назидание. Во всём этом весьма мало нового, а, напротив, чрезвычайно много самого истрепанного старья; но не в том совсем дело, а в том, что автор совершенно убежден, что сказал новое слово, что он сам по себе, и обособился и, разумеется, этим очень доволен. Этот примерчик, впрочем, старый и маленький, но слышал я и еще на днях рассказ об одном новом слове: был некто «нигилистом», отрицал, пострадал и, после долгих передряг и даже заточений, обрел в сердце своем вдруг религиозное чувство. Что ж, вы думаете, он тотчас сделал? Он мигом «уединился и обособился», нашу христианскую веру тотчас же и тщательно обошел, всё это прежнее устранил и немедленно выдумал свою веру, тоже христианскую, но зато «свою собственную». У него жена и дети. С женой он не живет, а дети в чужих руках. Он на днях бежал в Америку, очень может быть, чтоб проповедовать там новую веру. Одним словом, каждый сам по себе и каждый по-своему, и неужто они только оригинальничают, представляются? Вовсе нет. Нынче у нас момент скорее правдивый, чем рефлекторный. Многие, и, может быть, очень многие, действительно тоскуют и страдают; они в самом деле и серьезнейшим образом порвали все прежние связи и принуждены начинать сначала, ибо свету им никто не дает. А мудрецы и руководители только им поддакивают, иные страха ради иудейского (как-де не пустить его в Америку: в Америку бежать все-таки либерально), а иные так просто наживаются на их счет. Так и гибнут свежие силы. Мне скажут, что это всего два-три факта, которые ничего не означают, что, напротив, всё несомненно тверже прежнего обобщается и соединяется, что являются банки, общества, ассоциации. Но неужели вы и вправду укажете мне на эту толпу бросившихся на Россию восторжествовавших жидов и жидишек? Восторжествовавших и восторженных, потому что появились теперь даже и восторженные жиды, иудейского и православного исповедания. И что же, даже и об них теперь пишут в наших газетах, что они уединяются и что, например, над съездами представителей наших русских поземельных банков смеется вдоволь заграничная пресса по поводу
«… тайных заседаний первых двух съездов, не без иронии спрашивая: каким образом и по какому праву русские поземельно-кредитные учреждения имеют смелость претендовать на доверие публики, когда они своими тайными заседаниями, происходящими за тщательно охраняющими их китайскими стенами, скрывают всё от публики, давая этим ей даже понять, что у них действительно творится что-то недоброе…»
Вот, стало быть, даже и эти господа обособляются и затворяются и замышляют что-то свое и по-своему, а не так, как во всем свете это делается. Впрочем, я о банках вдвинул шутя: не мое пока дело, а я только об обособлении. Как бы мне объяснить эту мысль получше? Кстати, приведу несколько мыслей о наших корпорациях и ассоциациях из одной рукописи, не моей, а мне присланной и нигде не напечатанной. Автор обращается к своим оппонентам в провинции:
«Вы говорите, что артели, ассоциации, корпорации, кооперации, торговые и другие всякие товарищества основаны на врожденном человеку чувстве общительности? Выгораживая русскую артель, которая еще слишком мало исследована, чтобы говорить о ней что-либо положительное, мы думаем, что все эти ассоциации, корпорации и проч. — всё это лишь союзы одних против других, союзы, основанные на чувстве самоохранения, вызванные борьбою за существование; и это мнение наше подтверждается историею возникновения этих союзов, которые заключались сначала бедными и слабыми против богатых и сильных, а потом и эти последние стали пользоваться оружием своих противников. Да, история несомненно свидетельствует, что все эти союзы возникли из братской вражды, основаны не на потребности общения, как вы полагаете, а на чувстве страха за свое существование или же на желании получить барыш, выгоду, пользу, хотя бы и на счет ближнего. Всматриваясь же в устройство всех этих детищ утилитаризма, мы видим, что главная их забота — это устройство надежного контроля каждого за всеми и всех за каждым, — попросту, поголовного шпионства из боязни, как бы кто не надул кого. Все эти ассоциации с их контролем внутри и завистливою ко всему постороннему внешнею деятельностию представляют поразительную параллель с тем, что творится в политическом мире, где взаимные отношения народов характеризуются вооруженным миром, прерываемым кровопролитными схватками, внутренняя же их жизнь — бесконечною борьбою партий. О каком же общении, о какой любви тут может быть речь! Не потому ли все эти учреждения так плохо и прививаются у нас, что мы еще слишком просторно живем, что нам нет еще основания слишком вооружаться друг против друга, что в нас слишком еще много расположения, веры друг к другу, и эти чувства мешают нам устроить такой контроль, такое шпионство друг за другом, как это необходимо при устройстве всех этих ассоциаций, коопераций, торговых в других товариществ, при недостаточности же контроля они идти не могут, они непременно лопаются.
Уж не будем ли мы сокрушаться о таких наших недостатках, сравнительно с нашими более образованными западными соседями?! Нет, мы, по крайней мере, в этих наших недостатках видим наше богатство, видим, что в нас еще действует с некоторой силой то чувство единения, без которого человеческие общества существовать не могут; хотя оно, действуя в людях бессознательно, приводит их как к великим подвигам, так, весьма часто, и к великим порокам. Но в ком это чувство еще не убито, для того всё возможно, лишь бы оно, это чувство, из бессознательного, из инстинкта, обратилось в силу сознанную, в такую, которая не бросала бы нас в ту или другую сторону, по слепому капризу случая, а направлялась бы нами к достижению разумных целей; без этого же чувства единения, взаимной любви, общения людей между собою, немыслимо ничто великое, потому что немыслимо и само общество».
То есть автор, видите ли, может быть, и не совсем уж так проклинает ассоциации и корпорации, а он только утверждает, что их теперешний главный принцип состоит всего лишь только в утилитаризме да еще в шпионстве и что это вовсе не есть единение людей. Всё это молодо, свежо, теоретично, непрактично, но в принципе совершенно верно и написано не только искренно, но с страданием и болением. И заметьте всеобщую черту: всё дело у нас теперь в первом шаге, в практике, а все, все до единого, кричат и заботятся лишь о принципах, так что практика поневоле попалась в руки одним иудеям. История рукописи, из которой взял я вышеприведенную выдержку, следующая. Почтенный автор ее (не знаю только, молодой ли человек или из молодых стариков) напечатал одну небольшую заметку в одном губернском издании, а редакция губернского издания, поместив его заметку, сделала рядом и свою оговорку, отчасти с ним не согласную. Затем, когда автор заметки написал в опровержение этой, с ним не согласной, оговорки уже целую статью (впрочем, не очень большую), то редакция губернского издания отказалась поместить у себя эту статью под предлогом, что это «скорее проповедь, чем статья». Тогда автор обратился ко мне письмом и, посылая мне эту отказанную статью, просил меня, чтоб я ее прочел, вникнул и сказал об ней, в «Дневнике», мое мнение. Во-первых, я благодарю за доверие к моему мнению, а во-вторых — благодарю за статью, потому что она доставила мне чрезвычайное удовольствие: я редко читал что-нибудь логичнее, и хоть я всю статью поместить не могу, но предыдущую выдержку сделал с намерением, которого и не потаю: дело в том, что у автора ее, хлопочущего об истинном единении людей, я нашел чрезвычайно тоже «обособленный» в своем роде размах, и именно в тех частях рукописи, которые я не рискну приводить, до того обособленный, что даже редко и встречается; так что не статья одна, а и сам уже автор ее как бы подтверждает мою мысль об «обособлении» единиц и чрезвычайном, так сказать, химическом разложении нашего общества на составные его начала, наступившем вдруг в наше время.
Прибавлю, однако, что если все теперь «сами от себя и сами по себе», то не без связи же, однако, и с предыдущим. Напротив, связь эта должна существовать непременно, хотя бы и всё казалось разрозненным и друг друга не понимающим, и проследить эту связь всего бы любопытнее. Одним словом, хоть и старо сравнение, но наше русское интеллигентное общество всего более напоминает собою тот древний пучок прутьев, который только и крепок, пока прутья связаны вместе, но чуть лишь расторгнута связь, то весь пучок разлетится на множество слабых былинок, которые разнесет первый ветер. Так вот этот-то пук у нас теперь и рассыпался. Что ж, неужели не правда, что правительство наше, за всё время двадцатилетних реформ своих, не нашло у нас всей поддержки интеллигентных сил наших? Напротив, не ушла ли огромная часть молодых, свежих и драгоценных сил в какую-то странную сторону, в обособление с глумлением и угрозой, и именно опять-таки из-за того, чтоб вместо первых девяти шагов ступить прямо десятый, забывая притом, что десятый-то шаг, без предшествовавших девяти, уж во всяком случае обратится в фантазию, даже если б он и значил что-нибудь сам по себе. Всего обиднее, что понимает что-нибудь в этом десятом шаге, может быть, всего только один из тысячи отщепенцев, а остальные слышали, как в колокола звонят. В результате пусто: курица болтуна снесла. Видали ль вы в знойное лето лесной пожар? Как жалко смотреть и какая тоска! сколько напрасно гибнет ценного материала, сколько сил, огня и тепла уходит даром, бесследно и бесполезно.
IV. МЕЧТЫ О ЕВРОПЕ
«А в Европе, а везде, разве не то же, разве не обратились в грустный мираж все соединяющие тамошние силы, на которые и мы так надеялись; разве не хуже еще нашего тамошнее разложение и обособление?» Вот вопрос, который не может миновать русского человека. Да и какой истинный русский не думает прежде всего о Европе?
Да, на вид там, пожалуй, еще хуже нашего; разве только историческая причинность обособлении виднее; но тем, пожалуй, там и безотраднее. Именно в том, что у нас труднее всего добраться до какой-нибудь толковой причины и выследить все концы наших порванных нитей, — именно в этом и заключается для нас как бы некоторое утешение: разберут под конец, что растрата сил незрелая и ни с чем несообразная, наполовину искусственная и вызванная, и, в конце концов, может быть, и захотят согласиться. Так что всё же есть надежда, что пучок опять соберется. Там же, в Европе, уже никакой пучок не свяжется более; там всё обособилось не по-нашему, а зрело, ясно и отчетливо, там группы и единицы доживают последние сроки и сами знают про то; уступить же друг другу не хотят ничего и скорее умрут, чем уступят.
Кстати, у нас все теперь говорят о мире. Все предрекают мир долгий, всюду видят горизонт ясный, союзы и новые силы. Даже в том, что установилась в Париже республика, видят мир; даже в том, что республику эту устанавливал Бисмарк, — и в том видят мир. В согласии великих восточных держав бесспорно видят великие залоги мира, а иные из газет наших так даже и в герцеговинской теперешней смуте, вдруг, вместо недавних своих же тревог, стали замечать несомненные признаки прочности европейского мира (уже не потому ли, кстати, что ключ и к герцеговинскому вопросу очутился тоже в Берлине и тоже в шкатулке у князя Бисмарка?). Но больше всего у нас рады французской республике. Кстати, почему Франция всё еще продолжает стоять на первом плане в Европе, несмотря на победивший ее Берлин? Самое малейшее событие во Франции возбуждает в Европе до сих пор более симпатии и внимания, чем иногда даже крупное берлинское. Бесспорно потому, что страна эта — есть страна всегдашнего первого шага, первой пробы и первого почина идей. Вот почему все оттуда ждут несомненно и «начала конца»: кто же прежде всех шагнет этот роковой и конечный шаг, как не Франция?
Вот почему, может быть, в этой «передовой» стране и определилось всего более самых непримиримых «обособлении». Мир там совсем невозможен, до самого «конца». Приветствуя республику, все в Европе утверждали, что она уже тем одним необходима для Франции и для Европы, что только при ней невозможна будет «война возмездия» с Германией и что только одна республика, из всех еще недавно претендовавших на Францию правительств, не рискнет и не захочет предпринять его. А между тем это всё мираж — и республика провозглашена именно для войны, если не с Германией, то с еще более опасным соперником, — соперником и врагом всей Европы, — коммунизмом, и этот соперник теперь, при республике, восстанет гораздо раньше, чем было бы при всяком другом правительстве! Всякое другое правительство вошло бы с ним в соглашение и тем отдалило бы развязку, а республика ничего не уступит ему и даже сама вызовет и принудит его на бой первая. Итак, пусть не утверждают, что «республика — это мир». В самом деле, кто провозгласил в этот раз республику? Всё буржуа и мелкие собственники. Давно ль они сделались такими республиканцами, и не они ль доселе более всего боялись республики, видя в ней лишь одну неурядицу и один шаг к страшному для них коммунизму? Конвент, в первую революцию, раздробил во Франции крупную собственность эмигрантов и церкви на мелкие участки и стал продавать их, ввиду беспрерывного тогдашнего финансового кризиса. Эта мера обогатила огромную часть французов и дала ей возможность уплатить, через восемьдесят лет, пять миллиардов контрибуции, почти не поморщившись. Но, способствовав временному благосостоянию, мера эта на страшно долгое время парализовала стремления демократические, безмерно умножив армию собственников и предав Францию безграничному владычеству буржуазии — первого врага демоса. Без этой меры не удержалась бы ни за что буржуазия столь долго во главе Франции, заместив собою прежних повелителей Франции — дворян. Но вследствие того ожесточился и демос уже непримиримо; сама же буржуазия извратила естественный ход стремлений демократических и обратила их в жажду мести и ненависти. Обособление партий дошло до такой степени, что весь организм страны разрушился окончательно, даже до устранения всякой возможности восстановить его. Если еще держится до сих пор Франция как бы в целом виде, то единственно по тому закону природы, по которому даже и горсть снега не может растаять раньше определенного на то срока. Вот этот-то призрак целости несчастные буржуа, а с ними и множество простодушных людей в Европе, продолжают еще принимать за живую силу организма, обманывая себя надеждой и в то же время трепеща от страха и ненависти. Но в сущности единение исчезло окончательно. Олигархи имеют в виду лишь пользу богатых, демократия лишь пользу бедных, а об общественной пользе, пользе всех и о будущем всей Франции там уж никто теперь не заботится, кроме мечтателей социалистов и мечтателей позитивистов, выставляющих вперед науку и ждущих от нее всего, то есть нового единения людей и новых начал общественного организма, уже математически твердых и незыблемых. Но наука, на которую столь надеются, вряд ли в состоянии взяться за это дело сейчас. Трудно представить, чтоб она уже настолько знала природу человеческую, чтоб безошибочно установить новые законы общественного организма; а так как это дело не может колебаться и ждать, то представляется сам собою вопрос: готова ли наука к такой задаче сейчас, если б даже эта задача и не превышала сил ее в дальнейшем будущем ее развитии? (О том, что задача эта несомненно превышает силы науки человеческой, даже и во всем будущем ее развитии, — мы пока утверждать уклонимся.) Так как наука сама наверно отвечать на такой призыв откажется, то отсюда ясно, что всем движением демоса управляют во Франции (да и везде во всем мире) пока лишь мечтатели, а мечтателями — всевозможные спекулянты. Да и в самой науке разве нет мечтателей? Правда, мечтатели овладели движением даже по праву, ибо они одни во всей Франции заботятся об единении всех и о будущем, а стало быть, к ним как бы нравственно и переходит преемство во Франции, несмотря на всю их видимую слабость и фантастичность, и это все чувствуют. Но ужаснее всего то, что тут, помимо всего фантастичного, явилось рядом и стремление самое жестокое и бесчеловечное и уже не фантастическое, а реальное и исторически неминуемое. Всё оно выражается в поговорке: «Ote toi de lа, que je m’y mette» (Прочь с места, я стану вместо тебя!). У миллионов демоса (кроме слишком немногих исключений) на первом месте, во главе всех желаний, стоит грабеж собственников. Но нельзя винить нищих: олигархи сами держали их в этой тьме и до такой степени, что, кроме самых ничтожных исключений, все эти миллионы несчастных и слепых людей, без сомнения, в самом деле и наивнейшим образом думают, что именно через этот-то грабеж они и разбогатеют и что в том-то и состоит вся социальная идея, об которой им толкуют их вожаки. Да и где им понять их предводителей мечтателей или какие-либо там пророчества о науке? Тем не менее они победят несомненно, и если богатые не уступят вовремя, то выйдут страшные дела. Но никто не уступит вовремя, — может быть и от того, впрочем, что уже прошло время уступок. Да нищие и не захотят их сами, не пойдут ни на какое теперь соглашение, даже если б им всё отдавали: они всё будут думать, что их обманывают и обсчитывают. Они хотят расправиться сами.
Бонапарты тем и держались, что обещали возможность соглашения с ними и делали даже микроскопические к тому попытки, всегда, однако, коварные и неискренние. Но олигархи в них разуверились, да и демос им не верит ни капли. Что же до правительства королей (старшей линии), то те могут выставить пролетариям, как спасение, в сущности лишь одну римско-католическую веру, которую не только демос, но и огромное большинство Франции давно уже не знает, да и знать не хочет. Говорят даже, что между пролетариями с чрезвычайною силою развивается в последнее время спиритизм, по крайней мере в Париже. Младшая же линия королей (орлеанская) стала ненавистна даже самой буржуазии, хотя некоторое время эту фамилию и считали как бы естественною предводительницею французских собственников. Но неспособность их стала для всех очевидною. Тем не менее собственникам надо было спасать себя, им надо было непременно и как можно скорее приискать себе предводителя для великой и последней битвы с страшным грядущим врагом. Сознание и инстинкт шепнули им на этот раз верный секрет, и они выбрали республику.
Есть такой политический, а пожалуй, и естественный, закон природы, который состоит в том, что два сильные и ближайшие друг к другу соседа, как бы ни были дружны, всегда кончат желанием истребить один другого и, рано ли, поздно ли, приведут это желание в действие. (Об этом правиле сильного соседства можно бы было и нам, русским, поболее подумать.) «От красной республики прямой переход к коммунизму» — вот эта-то мысль и устрашала до сих пор французов-собственников, и столько времени должно было пройти, пока они вдруг, в огромном большинстве, теперь догадались, что ближайшие-то соседи и будут самыми ожесточенными врагами, уже из одного только принципа самосохранения. В самом деле, несмотря на столь близкое соседство красной республики с коммунизмом, — что, на деле, может быть враждебнее и радикально-противуположнее коммунизму, как не республика, даже хотя бы кровавая республика 93 года? В республике прежде всего республиканская форма и «la rйpublique avant tout, avant la France». В республике вся надежда лишь на форму: пусть будет «Мак-Магония» вместо Франции, но пусть только она называется республикой, — вот характеристика теперешней «победы» республиканцев во Франции. Итак, в форме ищут спасения. С другой стороны, какое дело коммунизму до республиканской формы, когда он в основе своей отрицает не только всякую форму правления, но и само государство, но и всё современное общество? Эту прямую противоположность, этот взаимный антитез двух сил нужно было восемьдесят лет сознавать массе французов, но наконец-то она сознала его и — утвердила республику: врагу выставила наконец самого опаснейшего и самого естественного ему соперника. Не захочет ни за что республика, перейдя в коммунизм, уничтожиться. В сущности республика есть самое естественное выражение и форма буржуазной идеи, да и вся буржуазия-то французская есть дитя республики, создалась и организовалась лишь республикой, в первую революцию. Таким образом, обособление совершилось окончательно. Скажут, что война еще далеко. Вряд ли так далеко. Может быть, даже и лучше не желать отдаления развязки. Уж и теперь социализм проел Европу, а к тому времени уже подточит всё окончательно. Князь Бисмарк про это знает, но слишком по-немецки надеется на кровь и железо. Но что тут сделаешь кровью и железом?
V. СИЛА МЕРТВАЯ И СИЛЫ ГРЯДУЩИЕ
Скажут: но всё-таки теперь, сейчас, нет ни малейшей причины тревожиться, всё ясно, всё светло: во Франции «Мак-Магония», на Востоке великое соглашение держав, военные бюджеты увеличиваются непомерно и повсеместно, — как же не мир?
А папа? Ведь он сегодня-завтра умрет и — что тогда будет? Неужели римское католичество согласится умереть с ним имеете для компании? О, никогда оно так не жаждало жить как теперь! Впрочем, наши пророки разве могут не смеяться над папой? Вопрос о папе у нас даже и не ставится вовсе и обращен ни во что. А между тем это «обособление» слитком огромное и слишком полное самых необъятных и невместимых желаний, чтоб согласиться отказаться от них ради мира всего мира. Да и для чего, в угоду чему отказаться? Ради человечества, что ли? Оно давно уже считает себя выше всего человечества. До сих пор оно блудодействовало лишь с сильными земли и надеялось на них до последнего срока. Но срок этот пришел теперь, кажется, окончательно, и римское католичество несомненно бросит властителей земных, которые, впрочем, сами ему изменили и давно уже в Европе затеяли на него всеобщую травлю, а теперь, в наши дни, уже окончательно организовавшуюся. Что ж, римское католичество и не такие повороты проделывало: раз, когда надо было, оно, не задумавшись, продало Христа за земное владение. Провозгласив как догмат, «что христианство на земле удержаться не может без земного владения папы», оно тем самым провозгласило Христа нового, на прежнего не похожего, прельстившегося на третье дьяволово искушение, на царства земные: «Всё сие отдам тебе, поклонися мне!» О, я слышал горячие возражения на эту мысль; мне возражали, что вера и образ Христов и поныне продолжают еще жить в сердцах множества католиков во всей прежней истине и во всей чистоте. Это несомненно так, но главный источник замутился и отравлен безвозвратно. К тому же Рим слишком еще недавно провозгласил свое согласие на третье дьяволово искушение в виде твердого догмата, а потому всех прямых последствий этого огромного решения нам еще заметить нельзя было. Замечательно, что провозглашение этого догмата, это открытие «всего секрета», произошло именно в то самое мгновение, когда объединенная Италия стучалась уже в ворота Рима. У нас многие тогда над этим смеялись: «Сердит, да не силен…» Только навряд ли не силен. Нет, такие люди, способные на такие решения и повороты, не могут умереть без боя. Возразят, что это и всегда так было в католичестве, по крайней мере подразумевалось, и что, стало быть, вовсе не было никакого переворота. Да, но всегда был секрет: папа много веков делал вид, что доволен крошечным владеньицем своим, Папскою областью, но всё это лишь единственно для аллегории; главное же в том, что в этой аллегории неизменно таилось зерно главной мысли, с несомненной и всегдашней надеждой папства, что зерно это разовьется в будущем в пышное древо и осенит им всю землю. И вот, в самое последнее мгновение, когда отнимали от него последнюю десятину его земного владения, владыка католичества, видя смерть свою, вдруг восстает и изрекает всю правду о себе всему миру: «Это вы думали, что я только титулом государя Папской области удовольствуюсь? Знайте же, что я всегда считал себя владыкой всего мира и всех царей земных, и не духовным только, а земным, настоящим их господином, властителем и императором. Это я — царь над царями и господин над господствующими, и мне одному принадлежат на земле судьбы, времена и сроки; и вот я всемирно объявляю это теперь в догмате моей непогрешимости». Нет, тут сила; это величаво, а не смешно; это — воскрешение древней римской идеи всемирного владычества и единения, которая никогда и не умирала в римском католичестве; это Рим Юлиана Отступника, но не побежденного, а как бы победившего Христа в новой и последней битве. Таким образом продажа истинного Христа за царства земные совершилась.
И в римском католичестве она совершится и закончится и на деле. Повторяю, у этой страшной армии слишком вострые глаза, чтобы не разглядеть наконец, где теперь настоящая сила, на которую бы ей опереться. Потеряв союзников царей, католичество несомненно бросится к демосу. У него десятки тысяч соблазнителей, премудрых, ловких, сердцеведов и психологов, диалектиков и исповедников, а народ всегда и везде был прямодушен и добр. К тому же во Франции, а теперь так даже и во многих местах Европы, народ хоть и ненавидит веру и презирает ее, но всё же Евангелия не знает совсем, по крайней мере во Франции. Все эти сердцеведы и психологи бросятся в народ и понесут ему Христа нового, уже на всё согласившегося, Христа, объявленного на последнем римском нечестивом соборе. «Да, друзья и братья наши, — скажут они, — всё, об чем вы хлопочете, — всё это есть у нас для вас в этой книге давно уже, и ваши предводители всё это украли у нас. Если же до сих пор мы говорили вам немного не так, то это потому лишь, что до сих пор вы были еще как малые дети и вам рано было узнавать истину, но теперь пришло время и вашей правды. Знайте же, что у папы есть ключи святого Петра и что вера в бога есть лишь вера в папу, который на земле самим богом поставлен вам вместо бога. Он непогрешим, и дана ему власть божеская, и он владыка времен и сроков; он решил теперь, что настал и ваш срок. Прежде главная сила веры состояла в смирении, но теперь пришел срок смирению, и папа имеет власть отменить его, ибо ему дана всякая власть. Да, вы все братья, и сам Христос повелел быть всем братьями; если же старшие братья ваши не хотят вас принять к себе как братьев, то возьмите палки и сами войдите в их дом и заставьте их быть вашими братьями силой. Христос долго ждал, что развратные старшие братья ваши покаются, а теперь он сам разрешает вам провозгласить: «Fraternitй ou la mort» (Будь мне братом или голову долой)! Если брат твой не хочет разделить с тобой пополам свое имение, то возьми у него всё, ибо Христос долго ждал его покаяния, а теперь пришел срок гнева и мщения. Знайте тоже, что вы безвинны во всех бывших и будущих грехах ваших, ибо все грехи ваши происходили лишь от вашей бедности. И если вам уже возвещали про это, еще прежде, ваши бывшие предводители и учители, то знайте, что хоть они и правду вам говорили, но власти не имели вам возвещать ее раньше срока, ибо власть эту имеет только один папа от самого бога, а доказательство в том, что эти учители ваши ни до чего вас путного не довели, кроме казней и пущих бедствий, и что всякое начинание их погибало само собой; да к тому же они все мошенничали, чтоб, опираясь на вас, показаться сильными и потом продать себя подороже врагам вашим. А папа вас не продаст, потому что над ним нет сильнейшего, и сам он первый из первых, только веруйте, да и не в бога, а только в папу и в то, что лишь он один есть царь земной, а прочие должны исчезнуть, ибо и им срок пришел. Радуйтесь же теперь и веселитесь, ибо теперь наступил рай земной, все вы станете богаты, а через богатство и праведны, потому что все ваши желания будут исполнены, и у вас будет отнята всякая причина ко злу». Слова эти льстивые, но без сомнения демос примет предложение: он разглядит в неожиданном союзнике объединяющую великую силу, на всё соглашающуюся и ничему не мешающую, силу действительную и историческую, вместо предводителей, мечтателей и спекулянтов, в практические способности которых, а иногда и в честность, он и теперь сплошь да рядом не верует. Тут же вдруг и точка приложения силы готова, и рычаг дают в руки, стоит лишь налечь всей массой и повернуть. А народ ли не повернет, он ли не масса? А в довершение ему дают опять веру и успокоивают тем сердца слишком многих, ибо слишком многие из них давно уже чувствовали тоску без бога…
Я уже раз говорил обо всем этом, но говорил мельком в романе. Пусть мне простят мою самонадеянность, но я уверен, что всё это несомненно осуществится в Западной Европе, в той или другой форме, то есть католичество бросится в демократию, в народ и оставит царей земных за то, что те сами его оставили. Все власти в Европе тоже его презирают, потому что оно на вид теперь слишком бедно и слишком побеждено, но всё же не представляют его себе в таком комическом виде и положении, в каком столь простодушно представляется оно нашим политическим публицистам. А, однако, не стал бы, например, Бисмарк так преследовать его, если б не почувствовал в нем страшного, ближайшего и скорого врага в будущем. Князь Бисмарк человек слишком гордый, чтоб напрасно тратить столько силы с комически бессильным врагом. Но папа сильнее его. Повторяю: теперь папство есть, может быть, самое страшное «обособление» из всех грозящих миру всего мира. А грозит миру многое. И никогда еще Европа не была начинена такими элементами вражды, как в наше время. Точно всё подкопано и начинено порохом и ждет только первой искры…
«Да нам-то что? Это всё там в Европе, a не y нас?» А нам то что, к нам же ведь и застучится Европа и закричит, чтоб мы шли спасать ее, когда пробьет последний час ее «теперешнему порядку вещей». И она потребует нашей помощи как бы по праву, потребует с вызовом и приказанием; она скажет нам, что и мы Европа, что и у нас, стало быть, такой же точно «порядок вещей», как и у них, что недаром же мы подражали им двести лет и хвастались, что мы европейцы, и что, спасая ее, мы, стало быть, спасем и себя. Конечно, мы, может быть, и не расположены бы были решить дело единственно в пользу одной стороны, но под силу ли нам будет такая задача и не отвыкли ль мы давно от всякой мысли о том, в чем заключается наше настоящее «обособление» как нации и в чем настоящая наша роль в Европе? Мы не только не понимаем теперь подобных вещей, но и вопросов таких не допускаем, и слушать об них считаем за глупость и за отсталость нашу. И если действительно Европа постучится к нам за тем, чтоб мы вставали и шли спасать ее l’Ordre, то, может быть, тогда-то лишь в первый раз мы и поймем, все вдруг разом, до какой степени мы всё время не похожи были на Европу, несмотря на всё двухсотлетнее желание и мечты наши стать Европой, доходившие у нас до таких страстных порывов. А пожалуй, не поймем и тогда, ибо будет поздно. А если так, то уж, конечно, не поймем и того, чего Европе от нас надо, чего она у нас просит и чем действительно мы могли бы помочь ей? И не пойдем ли мы, напротив, усмирять врага Европы и ее порядка тем же самым железом и кровью, как и князь Бисмарк? О, тогда, в случае такого подвига, мы уже смело могли бы поздравить себя вполне европейцами.
Но всё это впереди, всё это такие фантазии, а теперь всё так ясно, ясно!
1876 год.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
«Дневник писателя» — сборник произведений Фёдора Михайловича Достоевского, выходивший в 1873—1881 годах.Первоначально «Дневник писателя» печатался в еженедельном журнале князя В. П. Мещерского «Гражданин», редактором которого был Достоевский. В 1876 и 1877 «Дневник» выходил самостоятельными ежемесячными выпусками. В 1880 и 1881 годах появилось лишь по одному выпуску.