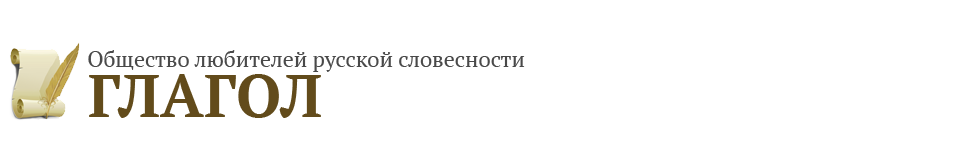Г.С. Померанц. Счастье

Русское слово «счастье» сливается по своему значению то с удачей, то с радостью. Первое несколько устарело, оно сохранилось в поговорках (счастлив в картах — несчастлив в любви и т.д.). Несколько меньше — в отрицательной форме (несчастье — большая неудача, неудача с роковыми, непоправимыми последствиями). Но в положительном смысле слова «счастье» на первое место выдвинулось переживание, связанное с удачей, — радость, и это подавило первоначальное значение.
Можно быть счастливым беспричинно. Можно быть счастливым, несмотря на неудачи, даже несчастья.
В развитии семантики слова «счастье» сказалась стихийная мудрость языка: обстоятельства могут сделать счастливого человека несчастным, но есть люди, которые ни при каких обстоятельствах не умеют быть счастливыми. И величайшая удача в жизни — это способность к радости. Глубокой, устойчивой радости. Уходящей на время вглубь и всплывающей вновь. Что бы ее ни вызвало!
Ребенок всегда способен к счастью и счастлив, когда играет, когда чувствует любовь матери и любит ее. А многие большие люди слишком озабочены для счастья. Они думают о завтрашнем дне (или о вчерашнем), о том, какие несчастья были с ними или могут быть, каких внешних условий счастья им не хватает, с утра до вечера делают работу, которая сама по себе не радует их, лишь бы не умереть под забором, — и проходят мимо счастья, которое всё в настоящем, в сегодняшнем дне, и не в вещах, а в нашей способности откликаться вещам — простым, естественным, дарованным: небу, дереву, человеку.
Многие могут испытать вкус счастья, только выпив и заставив уснуть заботы вместе с разумом. Многие вынуждены пить, чтобы заглушить голос совести или чувство страха. Вольному — воля, а пьяному — рай.
Для счастья нужно очень немного. Любить что-то больше самого себя, видеть или прикасаться к нему и забыть обо всем остальном. Внутренняя трудность счастья в том, что одна любовь сталкивается с другой (любовь к семье и — к правде, любовь к родине и — к свободе). Внешняя — в том, чтобы освободить свой ум от созерцания клетки пространства и времени, в которую мы заперты. На помощь любви приходят опьянение, сон и игра. Какие-то волны цвета, звука, пространственных и логических форм всегда нас окружают и охватывают: играя, дети строят из них гармонические ряды и в этом царстве свободы становятся самими собой, находят свое счастье.
Взрослые могут поступить так же, но им многое мешает. Во-первых, мешает несерьезное отношение к игре. Дети в своих играх подражают высшему, на которое можно показать пальцем, — взрослым. Положение взрослых труднее. На высшее, образом и подобием которого им хочется стать, пальцем не покажешь; и многие думают, что стремиться к тому, чего нет, несерьезно; серьезно они относятся только к тому, что необходимо: есть, пить, одеваться, иметь не слишком плохое правительство и т.д. Игры взрослых людей — только разминка, перекур, отдых. Так, во всяком случае, думают серьезные люди. Правда, большинство людей несерьезно: новости спорта волнуют их больше, чем политические события. Но это считается признаком глупости, — да так оно, пожалуй, и есть.
Необходимое подчиняет своему ритму, превращает в раба, в программированную машину. Нельзя оставаться самим собой, занимаясь необходимым больше, чем это действительно необходимо, — отдавая себя всегда достижению практической цели. Опыт показывает, что никакая цель не оправдывает средств, если по пути к ней человек теряет себя. Достигнутое оказывается пустым и бездушным, не радует и не удовлетворяет.
Но спорт и другие игры взрослых людей только чуть-чуть шевелят душу. Только в некоторых особых играх взрослый, как ребенок, чувствует себя образом и подобием чего-то высшего, свободным существом, царем вселенной. Такой игрой были религиозные обряды. Такие игры — искусство, любовь; для математиков, чувствующих форму числовых символов, такой игрой может быть их наука и т.д. Эти особые игры взрослых — подражание миру, которого нет в пространстве и времени, миру, которого мы не знаем, — быть может, создание нового. Они поднимают над будничным, дают чувство духовной бесконечности, они создали человека из животного и каждый день вновь создают его из праха.
Наши близкие родственники — обезьяны — более расположены к игре, чем другие животные: они превратили, например, в игру половые отношения (солидные млекопитающие любят только в период течки). Норберт Винер считает, что игра в шифровку и дешифровку дала толчок к развитию языка. Этнографы открыли, что примитивные племена приручают животных ради забавы и лишь гораздо позже домашние животные были использованы. А то, что математики занимаются своей наукой, не думая о потребностях производства, достаточно хорошо известно. Но ученые были бы обижены, если бы их занятие назвали игрой. Надо найти особое слово для высших игр взрослых людей.
Раньше, когда была религия, говорили: «святое искусство» , «святая любовь» . Таким образом, некоторым играм приписывалось мистическое значение, и это давало им положение в свете. На языке науки это положение трудно описать. Наука расшатала религию, но не может создать систему ценностей взамен религиозной. Фрейд — почтенный ученый, но он не способен заменить Амура. Прилагательное «научный» увеличивает ценность только явлений науки; «научное искусство» , «научная любовь» — нелепые сочетания слов. Скорее имеет смысл сочетание «изящная теория» . Но может ли искусство стать мерой всех ценностей, в том числе и научных, мерой, которой была религия? Без нее человеческая душа не может выбраться из хаоса.
Счастью взрослых мешают также забота, нечистая совесть, страх. «Храбрый умирает однажды, трус — тысячу раз» . Из страха перед страданиями человек часто подавляет и умерщвляет свою способность откликаться на поэтическое чувство; чтобы не потерпеть поражения в борьбе за необходимые блага, воспитывает в себе сухость и жестокость. «Бойтесь первого движения души, — учил Талейран, — оно обычно самое благородное» . Нечистая совесть заставляет замыкать сердце, чтобы, заглянув в него, не испытывать боли. Но «хрупкое растение счастья» (Стендаль) не может вырасти на окаменевшей почве. Жюльен Сорель мог сделать карьеру Растиньяка, но предпочел положить голову под нож гильотины, чем еще раз солгать: маска начинала прирастать к лицу. Невелика радость — стать счастливцем в глазах мещан – и дрянью в своих собственных. Иногда некрасиво не только быть знаменитым, но даже остаться в живых. И в камере, в недолгие дни до казни, Жюльен, быть может, испытал больше счастья, чем выбрав другой жребий и став супругом маркизы де ла Моль, вельможей и подлецом.
Стендаль был милостив к Сорелю и прислал к нему в камеру мадам де Реналь. В предельных ситуациях так не бывает.
…Старость — это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.
Б.Пастернак
Боги — на стороне победителей, Катон — на стороне побежденных. Здесь разговор о счастье вообще теряет смысл. Если остается только выбор между смертью и мучениями совести, стремление к счастью заходит в тупик, нужны другие принципы, чтобы сделать этот выбор разумным. Счастье не является высшим принципом, которому можно подчинить всю человеческую деятельность, и Милль прав: несчастный человек выше счастливой свиньи. Но надо ясно понять, что это значит.
Современное искусство охотно —даже слишком охотно — изображает неврастеников, душевнобольных, инстинктивно предпочитая их нормальным мещанам. Однако свинья не счастлива, она только сыта и довольна; это — гармония со средой, основанная на безличности, на отсутствии самостоятельного проекта. В подсознании мещанина дремлют подавленные порывы; вырываясь наружу, они разрушают карточный домик мещанского счастья. В психозах, как в раковой опухоли, разрастается искалеченная человеческая сущность, в болезненной раздражительности — способность к более острым впечатлениям, чем те, которые необходимы для добропорядочной службы. Без высокой чувствительности человек не знает ни счастья, ни несчастья. Поэтому способность к несчастью — примета высокоразвитого человеческого существа: поэта, художника, артиста. Но само по себе несчастье — состояние тоски по идеалу, первый шаг к нему, и только. Это состояние еще наполовину рабское, наполовину навязанное жизнью, а не то, которое человек должен искать, не идеал.
Счастье — не высочайшая, но достаточно высокая ценность. Способность к счастью — признак гармонической личности, свободной от страха, суеты, запутанности в заботах, личности, способной брать от жизни то, что жизнь дает, и давать ей все, что жизнь требует. Когда человек, достигнув цели, не чувствует себя счастливым, это значит, что он стремился к ложной (второстепенной) цели, приняв ее за истинную (главную), а главную упустил. Поэтому утрата способности к счастью, характерная для декаданса, — это индикатор душевного хаоса, разброда и шатания ценностей, неспособности найти в жизни главную линию. С высшей, надличной точки зрения счастье — не цель, но это средство, без которого трудно обойтись: счастливый человек делится с окружающими своим счастьем, неврастеник— своими больными нервами. Вопреки теории Адлера, согласно которой реформатором движет воля к власти, а воля к власти — компенсация неспособности к личному счастью, в жизни часто бывает наоборот. Радищев, Рылеев, Герцен умели быть счастливыми и были счастливы в любви (молодой Герцен). Но счастье, которое они давали одной или немногим и которое они от немногих получали, не было полным, потому что на него падала тень угрюмой и тяжелой жизни других. Счастье живет только в обмене, в передаче от одного другому. Им нельзя владеть, как домом или поместьем, обособившись от других. Только давая, не спрашивая взамен, можно вызвать его к жизни. Только рискуя потерять счастье, можно умножить его.
Схваченное в руки, зажатое в кулак, спрятанное от других, оно исчезает. Достоевский об этом писал: «Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя Никакого страха, ничего не может и сделать другого из своей личности, т.е. никакого более употребления, как отдать ее всю всем, чтоб и другие все были точно такими же самоправными и счастливыми личностями. Это закон природы; к этому тянет нормального человека» . Счастье — не цель, а скорее средство, без которого почти так же трудно обойтись, как без рук. Добро не укладывается полностью в рамки счастья, но вне их оно не может быть осуществлено.
Христос принял крестные муки, но Он не искал их, не носил вериг, не спал на гвоздях; Он любил своих учеников и с радостью беседовал с ними. Он сказал: если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. А дети чаще, чем взрослые, счастливы — и меньше взрослых боятся утратить счастье.
Григорий Соломонович Померанц — российский учёный, философ, культуролог и публицист.