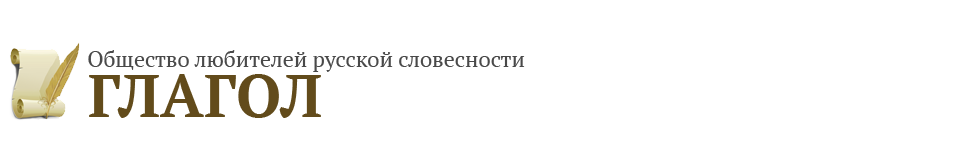Мозаика

РУСАЛКА
Русь — это чем пахнет, когда не разобрать, чем. Не то портки сохнут на солнце, не то тина, не то хлебом ржаным, не то новеньким школьным букварем, — все не то. Русь — русалка. Бьет хвостом Русь, выброшенная на сушу, и… нет, не задыха¬ется /не рыба ж/ — а хочет стать: то ли рыбой, чтоб уж без спектак¬лей, по-настоящему, то ли человеком окончательно, содрав хвост своё с прорезавшихся ног, как пеленки, о камни и холмы земли Русской, где и полк Игорев головы сложил, и Димитрий Донской на татар из за¬сады выскочил, и фашистская рать была разбита, изгнана и во гнезде собственном уничтожена — а все отец наш родной Иосиф Виссарионович, и перепел, и кулик. Вот. Волосы русалочьи ума лишают, хвост слизкий — живот кому отвращением, кому дикой похотью — жжет. Есть ли крест на тебе, Русь? Отвечает она с дьявольской усме¬шечкой, блестя глазами сквозь свесившиеся волоса: «Есть, брат, есть — поставлен!» Она, словно сокровище, из хвоста-рога изобилия выхва¬тывается, женщина без пяти минут, без часа — зверь. Никакая не рыба — именно зверь, чудо морское. Некто говорит, потому христианство тебе привилось, что под знаком Рыб оно. Так вот, не верь ему, Русь.
МЕТАМОРФОЗЫ
Воробей увидал мир и радостно чирикнул. Он открыл, что есть небо и есть земля, и сделался жаворонком, взмыв в синеву, откуда раздавался его голос. — голос Бога. Он стал по-прежнему невидим, скоро и песнь его умолкла, раскатившись далеко над простором, вошла, как нитка в иголку, в ровное гудение пассажирского само¬лета, которое завладело вскоре всем небом и навело сидящего в среднем ряду на мысль, что частые перелеты прививают навык как разных давлений, так и перемены времени. Что заставляет губы улыбаться? Невозможность дуться. Вызы¬вай приливы из глубины души своей, но не давай им ни восторга. ни злобы; каждый раз пусть гасит волна волну, оправдывая назва¬ние прилива, а не шторма, -прилива как штиля, обученного насту¬пать, мира, напоминающего войну и все-таки прочного, неверолом¬ного, что и способно внушить ужас, чаще, чем слезы, переливающи¬еся в смех. Человеческий, больной разум любит расшатанное, тре¬пещущее, подобно осеннему листу, готовому сорваться; больное находит и опору в разбитом — крепость же помутняет разум, как ста¬ринное вино, и доводит до сумасшествия. Тому учил меня в комнате с белыми стенами гном в грустной шапочке. Его глаза тонули в морщинках, пальцы играли костяшками деревянных счетов, а я стоял на пороге, — не смея войти. За спиной бушевал пожар, но мне велено было стоять спокойно, даже когда начнет тлеть моя куртка, — только если обожжет обнаженно, без всяких там прослоек, мне позволялось сделать шаг внутрь комнаты; но что ждало меня там, что ждало нас с гномом?! Комната не имела ни окон, ни мебели. Второго выхода не было, даже под пол. Мы об¬рекали себя на смерть, оставаясь в комнате с белыми стенами. Гном бубнил под нос свою философию и изредка, опуская нос все ниже. неубедительно призывал к спокойствию, говорил, уже сов- сем шепотом, что здесь мы не сгорим ни за что на свете; флакончик духов перед ним выдыхался от все нараставшего жара, а гном, держав- ший пробку до сих пор за щекой, принялся нервно ее грызть и наконец разгрыз всю и вдруг стал плеваться кусочками на стены, на пол, воздел ручки с широкими развевающимися рукавами, словно хотел вы¬пустить из них лебедей, — и я очутился посреди расплавленного сол¬нца. Вся пустыня была затоплена им. Возле меня плавала зеленая тет¬радка. Титульный лист был уже кем-то заполнен, но чернила быстро, на глазах, выцветали, словно бы тушуясь перед глазами и предлагая коротенькие дистанции, начинавшиеся то словцом «для», то полу слов¬цом «учени», — пробежать новому перышку. Чернила испугались, я еще первоклассник, десятиклассник — на худой конец, но для меня титуль¬ные листы тетрадей уже потеряли всякое значение: я теперь был один, — но Даже когда б я не закончил еще школы, все равно вписывать свои данные было бессмысленно здесь: из пустыни не видно было выхода, я мигом повзрослел в пустыне, политый одиночеством убитого солнца и собственной неприкаянностью среди его растекшейся плоти. Да, тетрадка слишком зелена для меня, пожелтелого, как китаец, от проступившей во мне мудрости. Тут я обнаружил, что без порток. Да, мудрость была без порток. Тетрадка взлетела с поверхности и выпустила лист, который обернул мудрость всю, точно живую рыбу,но скоро взмок. Я полез мудрости за шиворот и начал выдергивать от туда блоху за блохой. Мягкий звук разламываемого апельсина отвлек меня. Это тетрадка, удобно пристроившись на солнечной глади, как водомер, на свернутой в трубку страничке из нее самой, завтракала, нагло посматривая на меня, и явно находила мое занятие если не де¬бильным, то комичным наверняка. Ручки, ножки, органы — все было на месте. Это зеленое создание так ловко умело использовать, что бы ни ^ подворачивалось под него, что из самого себя создать какую угодно дуру не составляло для него никакого труда. Глазки, козырек, даже волосики, нарезанные из страничек… Я возненавидел ее. Я сказал, что тоже хочу апельсин и что пусть она не думает, будто выдерги¬вать у мудрости блох из-за шиворота доставляет мне огромное удо¬вольствие, — что такова просто моя обязанность, да, пусть непри¬ятная, неинтересная, но обязанность, и я предан своей обязанности и тем, быть может, выше их всех /хотя никаких «всех» вокруг вовсе не предвиделось/. Тетрадка выслушала меня, потом опустила свою самодельную, тонкую, как спичка, руку в золотую лаву и вытащила золотистый, без кожуры, апельсин. Глазки ее светились так же наг¬ло, в них появилась даже некоторая похотца. Я со злостью укусил апельсин и оказался на трибуне перед волнующейся толпой. Сквозь толпу пробивался мужик с ломом в руках. Я сразу почувствовал опасность: еще когда заломленная набекрень кепка его только замаячила на дальнем крае толпы. Чем ближе пробивался мужик, тем отчетливее становилась в моей голове мысль, затачиваясь, точно грифель карандаша, то иголочкой, то лопаточкой, то внезапно; она ломалась, но я точил ее вновь — и такие же формы приобретало острие лома, для моей головы предназначенного. Впрочем, что такое лом? Помятые каркасы автомобилей, каcтрю- ли, сковородки… Пионеры забавлялись сбором металлолома, пилоты — его производством, сбрасывая самолеты оземь. Но все то было некстати, не, по делу, а мужик — имел конкрет¬ную цель. Ох, и ломота заходила, по моему телу… хорошо, что не страх. Предвздошье говорило ею, диафрагма пела так дифирамбы сво¬ему распрямлению во вдохе. Вот мужик выступил из толпы и — выро¬нил лом. Он пал на колени, стянул одной рукой глупую свою кепку и неожиданно запел что-то церковное; вернее, мелодия была церковная и слеза, дрожавшая в голосе, тоже: была литургическая, но слова-то, слова! — совершенно поганые, бранные слова, попадались нецензурные, матерные, причем такими руладами, такими этажами… Сзади к мужику протиснулась тугая бабка, перевязанная цветастым платком крест-на¬крест. Послушала, послушала и методически стала бить мужика по спине, причитая навзрыд. Мужик продолжал петь, делаясь все торжес¬твенней, бабка била его все стервенистее; я растерялся; толпа при¬двинулась и стала закипать. Раздавались дерзкие выкрики, все чаще в мой адрес… И тут я не выдержал. Я свесился с трибуны и начал отдирать от нее государственный герб, а в затылок мне ударили ло¬мом, самым острием, мужика поволокли на трибуну, где-то слева уже вступал в действие ревтрибунал, трещали винтовки расстрела, взмет¬нулось красное знамя; мужик же изошел клекотом, глаза побелели, волосы кудрявые слиплись на лбу; баба уцепилась за его штанину и не пускала, дергала, дергала, дергала, пока кто-то, кто убил меня, не занес над ней и не опустил с таким же хладнокровием иссиня-вер-ный лом.
ЗЛОСТЬ
Злость происходит в человеке от одиночества. Он хочет общать¬ся, но не привык. Поскольку там, где отказывает привычка, загова¬ривает инстинкт, человек становится зверем. Общение для зверя ча¬ще всего заключается в смертельной драке. И человек следует верной памяти инстинкта, когда он злится на всех, и вся. Хотя бы так, хотя бн посредством дикого раздражения, но он неумолимо хочет общаться, ибо в общении — человеческое. Правда, что одиночество надо заслу¬жить. Одиночество искушает, как власть. Оно и есть власть. Потому цари одиноки. В этих-мыслях нет ничего нового, я знаю, на земле все повторно, и уж одно это способно вызвать злость. Я хотел бы оставаться без пахоты за спиной, пахоты, возделан- ной, увы, не мною, один, без опыта поколений. Меня беспокоит, ка- ковы, границы собственного стиля. Где кончается стиль и начинается неграмотность? Существует ли норма, если штампы без стыда публику¬ются газетами и печатаются на бюрократических бланках, — на той же бумаге. Какой ценитель выше белого листа? Нет нормы — нет и стиля. Что бы ты ни изобретал, окажется велосипедом. Но надо сделать шаг, перенести тяжесть на выставленную вперед ногу, чтобы узнать, будет она центром тяжести или ты упадешь, -.но надо упасть, чтоб узнать, хватит ли у тебя злости на подъем и следующий шаг, тот, который тоже, быть может, уронит тебя, — но ты снова встанешь и так будешь идти. Это — злость. Благородство одиночества, верность одиночества себе. Ибо одинокие, бросающиеся на других, ищущие общения с тем, что именуют обществом, — это предатели одиночества, которые прикры¬ваются знаменем злости. Злость — лакмусовая бумажка одинокого бла¬городства. Пью молоко, проверенное злостью доярки — труженницы именно по¬тому, что отдается своему одинокому уделу, не надеясь на подмогу здесь, на данном участке общей работы. Во рту как-то мягче, свежей и белее. Я могу говорить лишь приятное, детское. Я как лен.
ЧЕРНОТА
Перед светом зрачки сужают их черноту до точки. Перед тьмой чернота расширяется, стараясь с ней поравняться. Но чернота – не темнота, истинную тьму ей не пробить. Хотя как лакмус тьмы она. О, я хочу утопить черноту зрачков твоих в зелени глаз твоих, как сон утапливает их во лбу, выкатывая под веко белок. В глазах у тебя я словно в лесу. Точно дерево в поперечном разрезе – твой глаз, только годовых колец не разобрать в черноте. Они растут в тебе, далекие эти деревья, и я смотрю на них снизу вверх. Черно-то! – простонал дед: К нему было уважение за опыт, но не любовь. Угорел дедушка. В могиле ему та же чернота, зато без надежды, навечно – оттого- то и позволил он червякам съесть его. А сам куда – душу? Если злое общество не принимает в свою любовь человека, так примет космос. Но цель человека – самому стать кос- мосом. Который много милосерднее общества. Ибо дает слабым жить в себе, как дед /червякам/, взятый в космос из черноты. Космос настолько могуществен, что может заставить не бояться его. Это слабое общество — живет за счет страха граждан, выдумав для них ад и рай. Космос всеблаг: умри, не бойся, — говорит он, — если люди кажутся тебе злыми, не будь с ними, не то растопчут… Но ты сам мог бы стать всеблагим, человек! Чернота. Ее преодолевать — красным-красным стать, переплып все моря, на холмах взойти сизарями и подпругу нанять копотью. Влезть в черноту что из утра себя воздух выдохнуть, скуку жизни по лугам распустить осеннею паутиною, сохнуть, сохнуть пауком, терять в черноте сознание, отращивая черные усы и бороду. Бакен¬барды тож. Непременно румяны здесь дети, обязательно пьют валидол ста¬рики, девки губы черной помадой чернят, а по правде говоря едят чернику. Здравствуй, чернота! — если твое дело здравствовать — тебе, отученной от бытия, но сущей в коже портмоне и кротовьих глазах, занятых ходами невидимыми.
БЕЛИЗНА
Свету доступно то, что дает ему увидеть глаз, которому он, в свою очередь, дает усмотреть лишь то, что проглядывает само. Глаз и свет встречаются в вещах, но не могут посмотреть в лицо друг другу, ибо лицо друг друга — для них та же вещь. Они совместно созидают всегда предмет — и предмет встает между ними. Даже если убрать насильно все вещи с их пути, все равно останется предмет глаза — свет, желтый ли, белый, и предмет света — глаз, ибо в нем свет — отражает себя. Одна тьма может убрать их самих. Но и в темноте их будет объединять — отсутствие. Только осознав отсутст¬вие друг друга, они встанут лицом к лицу и вложат руку в РУКУ. Свет мешал нам нащупывать песнь наших тел, тыкая в глаза то прекрасно-нежное, то влекуче безобразное слизкое, соленое. Губы находили верней, чем руки. Но сложить из тела ответный по¬целуй мешал проклятый свет: ведь губы не пускают внутрь себя взгляд, смыкаясь… Цветы же тянутся навстречу свету — стеблю всех цветов. Ог¬ромный бутон солнца мучительно разворачивает свои лепестки на лугах земли и берет отданную росу, счастливо туманясь. Я, золотоискатель, ищу свет; его блики — моя загадка. Я разыскиваю потерявшегося того, кто выточил бы ключ к свету, по¬саженному под арест отражений. Я знал этого мастера; но он сам придумал замок, под который посадил свет, и выкинул ключ внутрь света. Не скрылся ли он сам под тем же арестом? Я хорошо искал вокруг, я почти ослеп — до того, что песок печений тает быстрее сахара у меня во рту; но нигде нет ни клю¬ча, ни мастера. Мастер, если ты внутри света, отзовись! Открой и впусти, заперев за мной, — или выйди, чтобы впускать всех же¬лающих. А может, попавший внутрь света не способен открыть его? Что ж. Я буду ходить по всем мастерским, перепробую все виды отмычек — пусть на это уйдет целая жизнь. Ее, слава Богу, и так уж немного…
ПИСЬМО
Друг мой Егор!
Я теперь не думаю о тебе совсем. Расстались мы давно, как сон. Я сыт, обут, вроде бы счастлив. Ведь рассудить строго логически, неизвестно, встретимся ли мы еще когда, — тосковать нет смысла… а тоскую. Памяти не отнять. Но она-то, по тебе, и про¬падает, вот где грех. Друг… Никогда не задумывался, что это такое. Может, много жизни было, чтобы думу успеть? Стало быть, теперь — срок. Другу не говоришь, что он другу, если по-настоящему. Дружба выглядит целомудреннее любви, но не оттого ли, что слабее? Любовь может допускать признания, ибо способна наполнять их собою и преодоле¬вать случайное бесстыдство. Целомудрие — высшая цель любви. Но то целомудрие, безусловно, рангом выше, чем у дружбы, которой оно дается как бы изначально. Друзья — дети, но непознавшие еще плода от древа, а не те, к которым устремлены любящие. Так-то, мой друг. Живешь ты, по слухам, в Рио де Жанейро. И сам, небось, забыл меня. Что ж, ладно. Важно, чтоб исчезла забота о времени, англий¬ская эта преданность минуте. Но прежде должно воспитать в себе преданность; она, конечно, не более чем скучающая беспечность ра¬зочарованных бездельников, та же суетность, однако обостренная, как болезнь, в которой вот-вот наступит кризис. Дружба вспомина¬ется, когда говорю о преданности. Но раз все же тоска, выходит, не стали мы с тобой — я, во всяком случае, — беззаботными. Ты в своем Рио для меня как пример, как учитель. Думая о тебе, мне становится легче забывать тебя и не тосковать. Да, лучше не гнать¬ся за неуловимым, черт с ним, с прошлым, какое бы хорошее ни было оно. У друзей один выход, гребень один у дружбы — друг на друга плевать, как ты. Дружба невысока — потолочек, не чета любви, что может расти бесконечно. Дружба к тому и старается, чтобы человек без друга мог, пресытившись, — совсем один — и не заботился бы о письмах, о памяти, как я, дурак-дураком. Вот ведь, я ж адреса твоего не знаю, Егор. А в Рио де Жанейро пи¬сать просто так — кто тебя искать станет. Кому ты там нужен, Егор! Эх… Дружба, дружба. Служба лучше. В ней человеческого меньше. Человеческое — одна срамота и морока. Сам не знаешь, когда хва¬лишь, когда с обиды, да-да, сам в бреду, мысли эти — фантом один, Егор. … Твой Ипат.
Дорогой Алексей Ромуальдович!
Наши отношения до сих пор складывались увлекательно, даже че¬ресчур, отчего, впрочем, они и остыли так быстро. Я доискиваюсь до причин, мой друг, и вспоминаю тот наш разговор в чулане… Хо¬тя странно Вам кажется, наверно, что вот пишу, обеспокоен. В на¬ши-то времена люди сходятся и расходятся без особенной радости или сожаления. Ну что ж. Вы сказали, тогда, мир крутит, мутит ка¬кая-то огненная лихорадка, тростник не дает больше сахара, хотя солнце пока столь же мило, и горячо, и светло. Вы сокрушались лок¬тями на поленницу, что Ваше назначение неведомо, а путь — почти пройден, что Вам тяжело, так, как не было даже в ледяной избе, ок¬нами выходившей в тундру. Ваш взгляд забыл себя где-то в углу, за¬путавшийся, как муха, в паутине, и его медленно пил неподвижный паук. Каждый миг отнимал у Ваших глаз свежесть и ясность, а потом Вы вскинулись и трудным голосом сказали, мол, неплохо бы по сто¬почке. Ну, вот так, Алексей Ромуальдович, так бы и всегда, милый! Куда нам высокие материи. Все мы сложные до известной черты. А черта — и выцвели. Вспомните, чулан был всегда нашим питейным за¬ведением, и в радость, и в горе. Когда у Вас жена померла, мы с Вами, напившись, отъебали труп ее; эх, тощища! — дали Вы мне на¬конец молодуху свою, да… Что уж там. Схоронили, честь по чести. Только странно /и об том моя речь, собственно, а я все клоню в сторону, на предметы/. Хаживал я частенько на могилу Вашей краса-вицы. Пляс-савица ж она была! Вы-то ее совсем забросили; кабы не я, бурьян бы все. А я и цветочки, и прополю, и даже мрамором выложил -да Вам ни словечком, ни-ни, чтоб не огорчать. Кто ж знает, где в че¬ловеке горе лежит. У Вас оно, значит, так лежало… Пришел я раз, вижу: вспух бугор! И плиты приподнялись, инде ж с корешками трава повылазила. Ну, сделал свое: утрамбовал, прополол, в вазу^ букетик поставил, — в общем, ровненько, прихожу на следующий день — опять бугор. Да больше прежнего. Что каравай — прижмешь — он и плоский, а отпустишь — как выпашет, вспухнет, мать… Да. Я снова прибрал могилку-то, и даже мотыжкой постебал, яблочко скушал, в щел¬ки между плит окурочков насовал, вздохнул-почесал-затылок. — А на третий день глядь — дите на могиле уакает. Да тихо так, словно букаш какой. Лежит, серенький, слабо ручками-ножками поводит, бедный, — и мяучит. А могилка-то вся разворочена, плиты дыбом, земля наизнань, ваза с розами опрокинута, все из нее как выпито — и снутри словно как бы презерватив прилип. Всяко видал на свете, а такое чтоб! Ну-те. Что ж это, думаю, — родила… покойница-то. И странно, безо всякого удивления, даже с радостью, точно бы знал, хотел, предвидел — когда хладное ее лядвие это мял и пожевывал. Только как он вылез наружу из гроба, милай мой? Сую руку в мякоть черноземную, но дальше твердо, камень. Но не стал брать ни кайлом, ни штыковою лопатою. Их, матушка, женушка ты моя, то бишь твоя, Александр Ромуальдович, думаю. Приютил я теперь сынка-то, растет помаленьку, сил набирается. Лишь вот серый он. Отчего, не скажешь, Александр? Вообще-то я тебя на дуэль вызываю, слышь. Потому как оно незакон впрямь, чтоб… твоя ж жена. Ты мне зря позволил. И не мне, а тебе меня на смертоубийство звать надлежит. Да ты трусоват. Приди уж к нам, гостем будешь. Я же, ты не знал, чай, и сам помре, то есть, так сказать, наполовину. Изба моя под землей теперь. В том свете живу, а на сей — появляюсь. Но все мои появления, кроме того, за сынком, — зря. А теперь тебя убить хочу. Будем вместе жить. Тут и жинка твоя — боялся говорить, да уж ладно — люльку качает, лучину жгет. Приходи, угостим тебя по-китайски, червяками с черноплодной ряби¬ною и жинку вдругорядь потрахаем, на боку: ты в зад, я — в перед. Потом опять подеремся. Кому смерть выпадет, тому и рожаться, снова жить. Приходи на опушку, ей-богу, не пожалеешь, брат. К завтрему, пополудни.
Твой Селиверст.
ТАРАКАНЬИ ПЛЯСКИ
«Читай как читается, мычи, когда нравится», — мой творец пощи¬пывал бородку. Чудеса случаются с обыкновеннейшими вещами, когда их по-свойски совместишь. Вот например, тараканы и пляски. Наверно, тараканы пляшут там, где их никто найти не может; найти же их никто не может там, где не ищет. У тараканов нет определенного местожи¬тельства, их дом — неизвестность, тень. Ночью тараканам разгул, ночью они и пляшут, везде у них ночью дом: никто их не ищет и не надо отыскивать мест куда никто не заглядывает, мест — для нико¬го, так сказать. Дети подозревают, что игрушки в их отсутствие оживают и закатывают таинственные дебоши. Конечно, это бред, не¬научно, но коренится такое ложное представление в факте реальном: тараканьих плясках по ночам. Тараканы ластятся к ночи, как кошка к ноге. И хотя кошка их во тьме видит, они ей не нужны. Людям же тараканы именно что не нужны. Зачем не дано людям видеть в темно¬те?
СТАТУЯ
Венера с веслом. Перед ней стоял, заложив руки за спину, ге¬ниальный ребенок. Кругом шныряли писклявые птахи. Похрустывал пе¬сок на дорожках парка под ногами знатоков ваяния. Текла сбоку от мальчика стальная от вечера река. Ребенок задумался: скоро он за¬будет, что он Пушкин в Летнем саду, и вновь все обрыднет. Рыба в тор¬го¬вых рядах, подлива к столу, хозяин, морды друзей. Нет, он действительно был Пушкин, а мысли… у него были всякие, не исклю¬чено. Но статуя держала весло крепко, а река была так заманчива, что мальчику захотелось на самом деле перестать быть Пушкиным: вы¬лезти из одежд его судьбы на простор речной волны. Для этого нуж¬ны весла. Одно — вот оно, отними, второе — найдется. Он жаждет быть Стенькой Разиным, для того и кудряв, как буря на море, гуляет и кораблик подгоняет. «Какой молодой знаток ваяния», — подумал один знаток, подойдя сзади. Ребенок наконец решился и ухватил весло. — Ты что здесь делаешь! — мгновенно отреагировал знаток. Мальчик оглянулся и, скорчив гримасу, расстегнул ширинку. Венера вдруг улыбнулась и молвила: — Ты что же. Знаток, а не знаешь, что блюдце в таких случаях подставляют. Подставь блюдце, дурак! Знаток засуетился, у него отлетела пуговица на пиджаке, он крикнул куда-то через плечо, чтоб поскорей блюдце, да на серебре чтоб испражнялся, если не найдется золотого. — Я только пописать. Как амурчики, знаете, на фонтанах, — вы¬таскивал ребенок. — А ну молчать, стерва! — красный, как рак, рявкнул знаток, почему-то на статую, почему-то путаясь в шнурках, упал и стал рыть муравейные ямки. Блюдо принесли, когда мальчик уже справил нужду. Почти совсем стемнело. И вот, статуя — глыба льда в бурной реке мгновений. Скульп¬тор пытался остановить миг. Столько сил он потратил на это, что насмешница Природа сжалилась-таки над ним и, хоть труд скульптора тщетен, показала ему истину не сразу, дала полюбоваться иллюзией пойманного мгновения; исподволь же понемногу подтачивала ее — от¬валивалась то рука, то нога, то член, то нос. Скульптор переживал свои творения, ибо песок, из которого они были созданы, — всего лишь песок тех минут, что невозможно заморозить и он возвращается к земле, на пляжи… Гипс рассчитан на жизнь человечества, так же как фигурки из песка — на жизнь отдельных людей.
ЗНАНИЕ
Сны разбивают жизнь на куски бодрствования, заполняя промежутки неизвестно чем, тем, что, когда прорывается на поверхность, бодрствующего сознания, почитают за бред. Знать — таково кредо яви. Сон — конек ночи. Связать воедино сон и знание пытаются сонники — толкователи снов. Но эти попытки кажутся смешными знанию, которое не умеет смеяться, то есть смешивать высокое и низкое, как закат разбавляет в морской воде на пробу всю палитру. Знание — против связи, которую предлагают сонники, значит, оно-то и раскалывает жизнь на сон и явь, обвиняя потом в этом сон. Оно мас¬кируется под него фонетическим сходством, чтобы вовремя усколь¬зать и выдавать за дела сна свои дела. Знание все делает испод¬тишка: заявляет, будто желает найти законы, на коих зиждется мир иначе бы он был бессвязен, — а само прежде расчленяет бытие: не то как отыскать целое, если не определены части. Ради того, что¬бы все соединить, знание готово все разлучить. Так что соединить мир у него не получается без остатка, который — сны, бред, все, отрицающее связь и закон. Включить их в свою систему знание от¬казывается; в том проявлена его сущность. Сущность зачастую рас¬крывается не в авангарде, а в арьергарде, не в удачах, а в ошиб- ках, хвостах. Знание, конечно, не желает признавать, что остаток, осадок, непокорный чуб его прически — ошибка его метода; гордое знание объявляет остаток своим врагом. мы бы поверили, если б оно действительно сражалось с ним: стремилось внести-таки связь в сновидение. Враг тогда считается поистине побежденным, когда он обращен в твою веру. Бороться с ним его же методами — не означает ли признать поражение? Гораздо опаснее для бреда толкователи, чем те, кто объявля¬ет толкование лженаукой. Борьба с чем бы то ни было требует отречения от себя, она всегда — преображение самого себя, хотя бы потому что борется прежде всего с тобой, с косностью в тебе, из-за которой ты не так хитер и гибок, как требует борьба. Знание должно стать самоотверженным, иначе на хвост ему когда-нибудь пребольно наступят. Да оно уже кое-где изменяется. К примеру, рыбьи губы. Если они есть, то похожи на заячьи. Так же молчаливы, даже больше: у них нет той последней черты, за которой заяц плачет, как ребе¬нок. Верхняя так же вздернута, особенно когда в нее вопьется рыболовный крючок. Старое знание не допустило бы между ними ту связь, что ры¬бы не плачут от боли, ибо дышат водой — пролитыми над пустым руслом некогда заячьими слезами: рыбы словно бы всегда плачут, не испытывая нужды в нарочных случаях. Прежнее знание согласи¬лось бы лишь с отсутствием рыбьего пузыря у зайцев. Теперешнее идет дальше. Оно вонзается рыбе в губу и вытас¬кивает вместе с тайной ее молчаливости, ничего не возражая про¬тив того, чтобы тайна скрывалась хоть и в пузыре. Знание сейчас вообще старается иметь дело с вещами молчаливыми. На них не тянет крикнуть мстительно: я тебя разочту! — не хочется расчле¬нить-убить, чтобы потом, только из принципа /а то рад бы так и оставить/, привести все в некий порядок. Тихие вызывают желание укладывать их любовно в ячеи остатка. Для крикливых энергично выстраиваешь системы, тихими же — уничтожаешь остаток, возника¬ющий при любом порядке. Незаполненные ячеи остатка сочетаются между собою причудливо и были бы бредом, не полюби их знание. Бред — горлопан, а знание пугливо, на него голоса не повысь. Ты будь со знанием как рыба.
ВЕЩИ
Вещи готовы к ненужности, в отличие от людей. Как отрешенна сахарница на столе; ей все равно, много ли в ней сахара. Как отрешенно трепещет в небе флаг; он знает, что лишь случайность на пути ветра и под рукой у людей, оказавших ему такую высоту. Людям нужна гордость вещей, люди устали от претензии ближнего быть тебе чем-то полезным. Под мольбой о нужности скрывается эгоистический страх оказаться забытым, неспособным к истинному эгоизму -одиночеству. Вещи — все одиноки. Поражает спокойствие скользящей по воде лодочки осеннего листа спокойствие дерева посреди поля. Правда, и у них есть нечто вроде тяги друг к другу. Только это не размыто-лживое влечение, как у людей. Она более предметна, она — молния. Молния сама чем-то вещь, но служит, помимо своего одиночества, тому, чтобы вещи воспламенялись или обугливались, познав тщету единения. В молнии, бьющей куда угодно, воплощена мечта о родстве и взаимоперетекании всех предметов, подобно звукам музыки. Она действительно объединяет вещи — вероятностью попадания в каждую, вероятностью, которую бесконечное время делает обязательной когда-нибудь-реальностью; и это суровое родство, оно наказывает тех, кто, забывшись, стремится походить на людей -и тянется из своего одиночества, желая быть нужным: дуб — во время бури — траве, дом — стульям в доме. Люди изобрели способ использовать вещи так, чтобы их не нака¬зывало суровое их родство. Они приручают вещи, выводя их из круга не нужных, одиноких, — они, живущие в конечном времени. Создают для вещей свой круг, главное в котором — система защиты от диких вещей например, громоотвод. Предметы эти живут, однако, меньше, чем неприрученные. Стулья ломаются, дрова — сгорают, между тем как палки валяются вечность.
ПОДУШКА
Я ту подушку ногой подбрасывал, припечатывая на удачный миг к потолку. Но недолго она подушкой была. Взял я дедушкин трофей¬ный нож из штыка. И распорол сначала наволочку, затем подушку. И стал ножом пух выпускать. Подушка была мягкая шелковая, шик на ней спать было. Ну и свистел же ее шелк, когда я ножом его раз¬рывал — туда-сюда, туда-сюда, все испоганил! Хватал пух горстя¬ми, купался в нем, валялся в одной распашонке, три оргазма испы¬тал, испражнился весь, весь теперь, как стеклышко, чистый! Лишь взгляд у меня не прозрачный, как раньше, сделался, а кровью на¬лился, голову куда-то повело, уши внутрях слиплись, губы повывертывало, мухи их враз облепили. Гады, гады, гадьё!
ЛЮБИМАЯ
Песня моя проста. Я живу, как воробей, на просторе, забочусь лишь о том, чтобы каждый день приносил радость. А для этого мало надо, ей-ей, вовсе ничего — и хлеб мой насущный — сама радость. Оно, может, и странно выглядит, да оттого и странно — что со стороны. Жизнь такая беспокойна, необеспечена: вокзалы, чердаки, подвалы. Кто не привык, адом тому покажется. «Как я ночь проведу на улице?!» — страхи-то вот его. Господи, братец, не то страх, где ты спишь, но страх — вот чего не нужно. Не верю я, господа ученые, будто непременно, чтоб сие про¬поведовать, надобно самому в тепле и довольстве жить, якобы по диалектике. Плевал я на диалектику! Украду хлебца из булочной -и уже чирикаю. Ни-ка-кой тут нет диалектики. Только то ж — один если я. А когда любимая? Когда любимая так не может, боится любимая ночных улиц и хочет в постели нормальной спать? Раз полюбил — что ж… Да-с, загвоздка. Про то и песня жизни моей, никудышной, но все же мне принадлежащей. И не отвертеться — бытием наказан, так сказать, осужден. Делать я мало умею. Петь вот разве. Радость когда особенно переполнит, так, что даже выплеснуться ей нету края, — пою то¬гда где придется, и так жить хочется, так эта радость во мне дрожит, что все сосудики, вся кровь — пьяным-пьяна, свет кругом в меня льется — или я пью, не разобрать уже: это как выдох и вдох… Лень мне песни слагать: осмысленность. Просто песню крика пою. Была б охота, собирал бы с граждан монеты. Да глуп я на это. А любимая-то так скоро ко мне приедет! И я с ней хочу — и ей хочу… А не она чтоб мне.
СЕРЕБРО ГОСПОДА МОЕГО
Услышав женский смех, я хватаюсь за ширинку в страхе, что расстегнута. На самом деле женский смех расплескивает серебро, и подсознательно я ищу, не пристало ли оно где на молнии. Сие ребро твое, Адам! — говорю себе. Они хотят засмеять твою нехват¬ку одного ребра, чтобы стыд скособочил тебя обратно — и воскресил бы Еву внутри тебя, оздоровил все твои соки так, что пища, принимаемая тобой, освящалась бы без предтрапезной молитвы, а само тело могло бы стать хлебом если не рода человеческого, то семьи твоей уж точно. То есть обрело работоспособность и возвра¬тило бы серебро наружу, сервизом и домашней купелькой, где, ми¬нуя попов, ты крестил бы твоих детей. Серебро извлекают на следующий манер. Снег сдавливают в ладони, пока нужное не вытечет,- остаток-то и наш. Им бьют о жесть, она вздрагивает. След от такого снежка и есть серебро, которое соскабливают специальной монетой, с Лениным. Серебро добывают весной: снег тогда легче тает. Молчание золото, а слово — серебро. Вон сколько здесь его. Скоблите и богатейте!