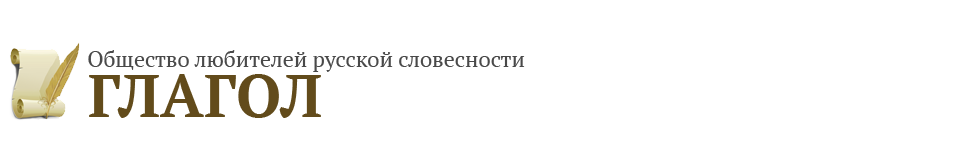«Доктор Живаго» глазами Ариадны Эфрон

Фрагмент из книги «Воздух трагедии», готовящейся в печати в московском издательстве «Arsis Box»
В одном из первых своих писем Борису Пастернаку Марина Цветаева дала ему очень важный и психологически зоркий совет:
«…Вам нужно писать большую вещь. (…) Книга пишущего не бросает, люди – судьбы – души, о которых пишешь, хотят жить, хотят дальше жить, с каждым днём пуще…» (1923, 11февраля).
В одном из писем Ольге Фрейденберг Борис Леонидович прямо писал о том, что считает роман «Доктор Живаго» частью своего долга перед Мариной Цветаевой. Ко времени создания романа из всей цветаевско – эфроновской семьи в живых осталась только Аля. Осталась совсем одна, её ссылка казалась бессрочной. Бориса Леонидовича она ощущала как самого близкого человека: пока он есть на свете, для Али не может порваться «связь времён», потому и роман «Доктор Живаго» стал – без всякого преувеличения – большим событием её жизни. Читала она очень взволнованно и в каком-то смысле – как бы «глазами всей семьи». Большое письмо её Б. Пастернаку, посвящённое «Доктору Живаго», занимает особое место во всей их уникальной переписке. Многое стоит за каждой его строкой… «Образы Лары, Юры, Павла больно входят в сердце, потому что мы их знали такими, какими они даны тобою, и мы их любили, и мы потеряли их, потому что они умерли, или ушли, или прошли, как проходит болезнь, молодость, жизнь. Как умираем, уходим, проходим мы сами…». Именно потому, что так «больно входят» в её сердце эти люди, ей и мешает порой в романе «теснота страшная», и она пишет: «В 150 страничек машинописи втиснуть столько судеб, эпох, городов, лет, событий, страстей, лишив их (…) необходимого пространства и простора, воздуха!» Она заботится о героях романа как о родных людях, и ей хочется дать им больше «простора и воли», чтобы и самой как можно дольше «жить» в этой книге.
Иногда ей важно что-то психологически уточнить и даже исправить: «Павел уехал на фронт. (…) В таких случаях расстояние и недосягаемость страшно сближают людей, а Лара, когда письма от Антипова прекращаются, «вначале не беспокоится”. Да возможно ли не беспокоиться вначале? (…) И чувство её к ребенку должно было сделаться более смятенным…».
Как не услышать здесь и память об их с Мариной страхе за Сергея в 1918 – 1921 годах, и воспоминание об особом, позднее никогда не повторившемся отношении Марины к маленькой дочке, так напоминающей отца («Ты отца напоминаешь мне /Тоже ангела и воина!»), и собственный взрослый опыт Али, ожидавшей писем от любимого в лагере.
Такая читательница, как Ариадна Эфрон, не могла не почувствовать, что и болевая память Бориса Леонидовича о её родителях тесно вплетена в ткань романа. Дело, разумеется, не в буквальных аналогиях, не в прямом сходстве характеров и ситуаций, но в строе чувств, в том, о чём и как люди думают и говорят, какие мотивы двигают ими и определяют поступки.
Ставший мужем Лары тихий книжный мальчик Павел Антипов (с «уютным» домашним именем «Патуля») неожиданно для неё рванулся на фронт, а потом – в водоворот Гражданской войны. Сложные душевные побуждения владеют им во всём этом. И среди них – мучительно трудные отношения с женой: «Вдруг она (Лара) поняла <…>, что Патуля заблуждается насчет её отношения к нему. Он не оценил материнского чувства, которое она всю жизнь подмешивает в свою нежность к нему, и не догадывается, что такая любовь больше обыкновенной женской» (курс. – Л.К.). Дело действительно не в прямых аналогиях, но, честно говоря, читая такое, совсем отбросить их невозможно, как и при чтении другого эпизода: фронтовой товарищ Павла «временами, глядя на него, (…) готов был поклясться, что видит в тяжелом взгляде Антипова, как в глубине окна, кого-то второго, прочно засевшую в нем мысль, или тоску по дочери, или лицо его жены. Антипов казался заколдованным, как в сказке (курс. мой – Л.К.)
В годы Гражданской войны Марина Цветаева была мистически убеждена, что своим постоянным сосредоточением на мысли о воюющем муже она вымолила у Судьбы его жизнь, а Сергей писал маленькой Але: «Родная моя девочка! <…> Вся любовь и все мысли мои с тобой и с мамой…» Взрослой Але и в этой линии романа, как во многих других, «не хватило простора» – мало видна любовь отца к маленькой дочке: «Играет ли он с ней? Смотрит ли на неё спящую?» — спрашивала она автора. Она-то хорошо знала, как ведут себя любящие отцы. Но так обижаться можно только на очень близкого – и когда речь идёт о близком душе: «Ася называет его Серёжей, и я подружился с этим именем. Все им очарованы, кто знает, и говорят одно хорошее. Мне кажется, что я его за что-то люблю, п. ч. мне как-то от него больно», — писал Борис Пастернак об отце Али.
В романе звучит предчувствие страшного будущего, которое ждёт человека, отдавшего себя, по словам Лары, во власть «безжалостных сил», «которые и его когда-нибудь не пощадят. Мне показалось, что он отмеченный, и что это перст обречения…».
Павел Антипов превращается в твердокаменного фанатика. О самом больном и мучительном для неё в этом изменении Лара говорит Юрию, и они, как всегда, мгновенно понимают друг друга. «Точно что-то отвлечённое вошло в этот облик и обесцветило его. Живое человеческое лицо стало олицетворением, принципом, изображением идеи. У меня сердце сжалось при этом наблюдении». Много лет тревожила Марину Цветаеву похожая перемена в «её Серёже». «С. Я. совсем ушёл в Советскую Россию, ничего другого не видит, а в ней видит только то, что хочет». (А.А. Тесковой. 1932). «Встретила я чудесного одинокого мальчика (17 лет) <…> и вот, за эти двадцать лет <…> сложился в другое, часто – неузнаваемое». (Наталье Гайдукевич. 1934). Но и другой мотив, твёрдо прозвучавший в словах Лары – «То же красивое, честное, решительное лицо, самое честное изо всех лиц, виденных мною на свете» — всегда был в тех цветаевских письмах.
В одну из их первых встреч Юрий Живаго так говорит Ларе о вышедшем из берегов времени: «Вы подумайте, какое сейчас время! (…) Ведь только раз в вечность случается такая небывальщина. (…) Сошлись и собеседуют звёзды и деревья, философствуют ночные цветы и митингуют каменные здания. Что-то евангельское, не правда ли?»
Очень похожий монолог героя звучит в рассказе Сергея Эфрона «Тиф»: «В отдельных жизнях и у народов тоже бывает такое (…) всё по-новому, словно весь мир первозданным на тебя навалился. (…) Ну, как в детстве и солнце, и небо, и дождь, и города, и каждый встречный, всё, всё – становится важным, громадным, в глаза лезущим, в сердце вонзающимся <…> Понимаете? Понимаете?».
Само время диктовало вслушивающимся в него людям такой не обыденный язык. Язык этот не мог по-особому не взволновать Алю, давно такого не слышавшую. (Молодые люди и девушки 1930-х годов и далее так не говорили…).
Диалоги Юры и Лары в романе, очень близко напоминают эпистолярный диалог Б. Пастернака и М. Цветаевой в самые высокие его минуты. В одном из самых главных (по значительности сказанного об их отношениях) писем Бориса Пастернака звучит: « …главное было сказано навсегда. Исходные положенья нерушимы. Нас поставило рядом. В том, в чём мы проживём, в чём умрём и чем останемся. Это фатально, это провода судьбы, это вне воли». (1926, 30 июля). На той же волне — одно из цветаевских признаний: «Ты мне насквозь родной (…) (Это не объяснение в любви, а объяснение в судьбе)». Юрий Живаго говорит об отношениях с любимой женщиной словами Шекспира: «Мы в книге рока на одной строке”.
Эту мощную и «всеохватывающую» мелодию сопровождает в романе Б. Пастернака не менее сильная тема «другой любви» героини – к мужу: «Мы с ним люди настолько же разные, насколько я одинаковая с тобою. Я тогда же сердцем выбрала его. Я решила соединить жизнь с этим чудесным мальчиком (…) и мысленно тогда же помолвилась с ним» (курс. мой. – Л.К.). «Встретила я чудесного мальчика…», — писала Марина Цветаева Наталье Гайдукевич о встрече с Сергеем Эфроном. И далее – о том, как и почему решила навсегда остаться с ним. Борису Пастернаку она так подробно об их истории не писала, но его внутренний слух был тогда очень настроен на неё, на её мир, и даже в жару их эпистолярного романа он почувствовал и человеческое обаяние «её Серёжи), и — глубокую ценность и высоту их отношений. В 1926 году он написал ей, что не верит в значительность в её жизни никаких адресатов её прежней лирики («никаких Ланнов»): «… для меня существует только С.Я. и моя жизнь».
И Юрий Живаго тоже глубоко понимает, о чём говорит Лара…«Я сказал тебе, что ревность вызывает во мне обыкновенно низший, а не равный. К мужу я тебя не ревную». Память о таких «чудесных мальчиках», к роду которых принадлежал Сергей Эфрон, каким любила Марина своего «дорогого и вечного добровольца», живёт в романе Пастернака. Поразителен (с точки зрения психологии творчества…) один эпизод: доктор Живаго склоняется над молодым белогвардейцем, которого считает убитым, и видит, что на подкладке его шинели «старательной и любящей рукою (…) вышито: Серёжа Ранцевич». Юрий Живаго вылечил и отпустил этого мальчика.
У Б. Пастернака звучит ещё и предчувствие страшного будущего, которое ждёт человека, отдавшего себя, по словам Лары, во власть «мертвящих и безжалостных сил». Юрию Живаго в романе дано поэтическое ясновидение –то самое, что заставило Марину Цветаеву в то время, когда на уровне обыденного сознания этого ещё ничто не предвещало, написать роковые слова ( «Такие в роковые времена/ Слагают стансы и идут на плаху»), и он с горечью предсказывает Антипову-Стрельникову страшную судьбу: «Чем он располагает к себе? Это обреченный. Я думаю, он плохо кончит. (…) Пока он им нужен, его терпят, им по пути. Но по первом миновении надобности его отшвырнут без сожаления прочь и растопчут…».
О мучительном ощущении своей обречённости Сергей Эфрон писал М. Волошину ещё в 1923 году — задолго до самых страшных событий: «Я с детства (и не даром) боялся (и чуял) внешней катастрофичности, под знаком которой родился и живу. Это чувство меня никогда не покидает. (…) Это ожидание ударов не оставляет меня и теперь…».
«А нет ли для него спасения? В бегстве, например? – спрашивает Лара в романе.– Куда, Лариса Федоровна? Это прежде, при царях водилось. А теперь попробуйте…»
В начале ХХ века нашла спасение в бегстве из царской тюрьмы революционерка Лиза Дурново (Эфрон), мать Сергея Эфрона. Теперь – всё по-другому. И Ариадна Эфрон, внучка той революционерки, читала роман Пастернака (в первой редакции) в коротком перерыве между арестами. И вставали перед ней, потрясённой возможностью ТАК вспоминать, давние, казалось бы, безвозвратно унесённые ветром картины времени, картины собственной жизни, собственного детства…
«В комнату вошла девочка лет восьми (…). Она уже за дверью обнаружила, что у матери гость, но показавшись на пороге, сочла нужным изобразить на лице нечаянное удивление, сделала книксен и устремила на доктора немигающий, безбоязненный взгляд рано задумывающегося, одиноко вырастающего ребенка. (…)
– Так ты, оказывается, дома? А я думала, – гуляешь. Я и не слышала, как ты вошла.
– Вынимаю из дыры ключ, а там вот такой величины крысина! Я закричала и в сторону! Думала, умру со страху».
И хотя внешне Катенька («с двумя мелкозаплетенными косичками, узко разрезанные, уголками врозь поставленные глаза придавали ей шаловливый и лукавый вид. Когда она смеялась, она их приподнимала…») явно напоминает другую милую сердцу Бориса Леонидовича девочку – дочь Ольги Ивинской Иру Емельянову (достаточно взглянуть на любую её фотографию!),
но всё же не её, а Алино детство проходило в описанные в романе годы, и вот — живая картина из жизни дома в Борисоглебском. Вспоминает Борис Зайцев: «Марина Ивановна, накинув шубу, переписывает книгу Волконского, на постели под одеялами Аля (…).- Мама, я крысов боюсь, вон опять за шкафом пробежали, они на кровать ко мне вскочат…
— Глупости, ничего не вскочат…
Это Але виднее, но Марина не может сидеть с ней целый день. Обычно уходит, запирает на ключ, вот и жди в холоду с крысами маму». (Из воспоминаний Бориса Зайцева).
И ещё сцены из романа, которые не могли не вызвать у взрослой Ариадны Эфрон глубоко личных ассоциаций… Лара ведёт Юрия Живаго в дом, где они с Катенькой живут в Юрятине: «Видите, какая у нас лестница <…> Дайте руку и покорно следуйте за мной. Тут будут две комнаты, где темно и вещи навалены до потолка. Наткнётесь и ушибётесь.
– Правда, лабиринт какой-то. Я не нашёл бы дороги. Почему это? В квартире ремонт?
– О нет, нисколько. Дело не в этом <…> Не выпускайте моей руки, а то заблудитесь. Ну так. Направо.
Теперь дебри позади. Вот дверь ко мне. Сейчас станет светлее.
Порог. Не оступитесь».
Как всё это похоже на московский дом в Борисоглебском в 1918 – 1920 году! И интонацию этого монолога Лары Аля просто не могла не узнать – она звучит и в нежно любимых ею цветаевских стихах («Чердачный дворец мой, дворцовый чердак!/Взойдите. Гора рукописных бумаг…/ — Так – Руку! – Держите направо, / — Здесь лужа от крыши дырявой»), и — в дневниковых записях, по горячим следам фиксирующих живые эпизоды их жизни тех лет: «А вот и я к Вам пришел, Марина Ивановна! (…) — Я страшно счастлива. (…) Только у меня очень плохо, такой разгром, всё поломано. Вы не бойтесь, там у меня лучше…
— Это мы здесь будем сидеть?
(Беспомощно и подозрительно озирается: столы, половины диванов, отовсюду ноги и локти стульев и кресел, кувшины, разбитый хрусталь, пыль, темнота…)
— Нне-ет! Мы ко мне пройдём». Слава Богу, что Вы не видите, иначе бы Вы…»
И как много значило для Ариадны Эфрон, что помог ей погрузиться в то время, когда она ещё «жила свою жизнь», именно Борис Пастернак! «Как хорошо, что ты сделал то, что мог сделать только ты, — не дал им всем уйти безымянными и неопознанными, собрал их всех в добрые и умные свои ладони, оживил своим дыханием и трудом».
Может быть, и это потрясение от того, что сделал Борис Леонидович своим романом, — она ещё много раз перечитывала его, много думала над ним, поистине «жила в нём», — побудило Ариадну Эфрон не дать уйти неопознанными тем, кого она горячо любила и помнила…
Лина Кертман