Бессмертная комедия и вечная истина

В 1824 году Александр Сергеевич Грибоедов завершил работу над комедией «Горе от ума». Уже летом в альманахе «Русская Талия» были опубликованы (не без цензурных вмешательств) отрывки из первого и третьего действия. Впрочем, многим текст пьесы был известен по спискам, распространению которых активно способствовал сам автор. Итак, ровно 190 лет творение русского гения волнует умы и чувства наших соотечественников.
Сбылось пророчество Пушкина о том, что половина стихов пьесы должна войти в пословицы. «Служить бы рад – прислуживаться тошно», «Чины людьми даются, а люди могут обмануться», «Подписано – так с плеч долой!», «А судьи кто?», «Шёл в комнату – попал в другую», «Кричали женщины: ура! и в воздух чепчики бросали», «Уж коли зло пресечь: собрать все книги бы да сжечь», «Я… вам фельдфебеля в Вольтеры дам» – этот ряд выражений, быстро ставших крылатыми, можно продолжать до бесконечности.

Блистательный язык комедии не потерял свежести и в наши дни, служа мощной опорой родной нашей речи, которую сегодня теснит со всех сторон «общество нелюбителей русской словесности», предпочитающее «великому, могучему, свободному» продукцию новояза, безудержные иностранные заимствования, сниженную лексику, язык деклассированных групп.
Но, разумеется, не только гениальный язык «Горе от ума» – причина популярности комедии. У нее много других достоинств: умело вылепленные характеры, ставшие нарицательными образами (скажем, Молчалин), не оставляющая равнодушными зрителей интрига, конфликт поколений в лице Чацкого и Фамусова… Но даже продолжив этот ряд достоинств пьесы, мы едва ли приблизимся к разгадке ее популярности. Скажем, в пьесах Фонвизина или Мольера, как и Грибоедов работавших в рамках классицизма, в драматургических произведениях Островского интрига порой и позакрученней, чем в «Горе от ума», и характеры, ставшие символами (тот же Митрофанушка) и конфликты старого и нового (разрешающиеся порой трагически, как в «Грозе»). Да и приемы, на которых строится сюжет, нельзя сказать чтобы всегда были изобретательны: и Чацкий, и Софья роковые для себя истины узнают вольным или невольным подслушиванием (отчасти автора извиняет канон классицизма, требующий единства места – приходится прибегать к помощи колонн и прятать за них действующих лиц).
В чем же секрет? «Никогда ни один народ не был так бичуем, никогда ни одну страну не волочили так в грязи, никогда не бросали в лицо публике столько грубой брани, и, однако, никогда не достигалось более полного успеха», – отметил Чаадаев в «Апологии сумасшедшего».
Неужели так? Но Петр Яковлевич, наверное, знал, о чем говорил: и про грязь, и про удивительную реакцию бранимой публики… А может быть, эта реакция на пьесу впервые обнаружила наше уникальное национальное свойство – смеяться над самими собой, причём смеяться зло? Больше того – смеяться вместе с теми, кто смеётся над нами, хуже того – насмешничает — в том числе над тем в нас, над чем смеяться нельзя. Розанов писал в «Опавших листьях», что у француза есть – «chére France», у англичан – «старая Англия». У немцев – «наш старый Фриц». Только у прошедшего русскую гимназию и университет – «проклятая Россия». Как же удивляться, что всякий русский с 16-ти лет пристаёт к партии «ниспровержения государственного строя».
А что в этой России видит путешествующий по ее необозримым просторам главный герой пьесы Александр Андреевич Чацкий?
.
В повозке как-то на пути
Необозримою равниной сидя праздно,
Всё что-то видно впереди.
Светло, синё, разнообразно;
И едешь час, и два, день целый: вот резво’
Домчались к отдыху; ночлег: куда ни взглянешь,
Все та же гладь и степь, и пусто и мертво…
.
Отдадим должное лирическому чувству Грибоедова, но всё же, какой обманчивый образ России предстает глазам его героя! Кажется: «светло, сине» и какое-то будущее впереди грезится. А присмотришься: «и пусто и мертво».
«Горе от ума» писалось в годы правления либерального Александра I. При нем продолжался «паралич церкви», начавшийся со времен Петра Великого. Создание Священного союза после Наполеоновских войн привело к официально навязываемой веротерпимости по отношению к инославным конфессиям: в Союз ведь входили также и страны населённые католиками и протестантами. Веротерпимость и всеконфессиональность обернулась покровительством сектантам – особенно духоборам, молоканам, и скопцам. Широко пропагандировались мистицизм и внецерковная религиозность. Стремительно возрождалось масонство. В 1810 году в Петербурге насчитывалось до 239 масонов плюс 25 почетных членов масонских лож. Примерно столько же было, скорее всего, и в других городах. Итого около 500 братьев. «По тем временам это была уже немалая сила», – замечает, приводя данную цифру, историк В.С. Брачев. Александр Сергеевич Грибоедов состоял в самой многочисленной масонской ложе Петербурга «Соединенные друзья». В отличие, скажем, от Карамзина или Чаадаева, он – по крайней мере, официально – никогда не порывал с масонством. В этой ложе, а также в подобных им, состояли многие декабристы: Пестель, Трубецкой, Волконский, Николай Тургенев, Никита Муравьев, Рылеев, Бестужев, Бестужев-Рюмин – всего 51 человек. А большинство этих лож входили в состав французской Великой Диктаторской Ложи, которая, как показал французский исследователь профессор Бернард Фея в работе «Франкмасонство и интеллектуальная революция XVIII века», – «порвали с христианством и заменили последнее верой в темную мистику, науку и социальный прогресс. Местные ложи Великой Диктаторской Ложи и были главными организаторами революций в разных странах».
О связях Грибоедова с декабристами судить трудно. Если и были какие-то документы, отражающие такую связь, то Генерал Ермолов, получив высочайшее повеление арестовать Грибоедова, захватить все его бумаги и доставить с курьером в Петербург, дал своему любимцу время их уничтожить. Грибоедов был привезён в столицу, четыре месяца сидел на гауптвахте Главного штаба, несколько раз подвергался допросу. Следствие не нашло серьёзных доказательств принадлежности Грибоедова к тайному обществу. Об отношении к декабристскому движению автора «Горе от ума» говорит написанное, впрочем, уже после освобождения его письмо к своему большому другу Александру Одоевскому: «Кто тебя завлек в эту гибель!! В этот сумасбродный заговор! кто тебя погубил!! Ты был хотя моложе, но основательнее прочих. Не тебе бы к ним примешаться, а им у тебя ума и доброты сердца позаимствовать! Судьба иначе определила…»
Не исключено, конечно, что арест и допросы, знакомство с показаниями подследственных, некоторые из которых (немногие, по счастью) оказались не в пользу Грибоедова, повлияли на его отношение к участникам «сумасбродного заговора».

Как бы то ни было, после освобождения Александра Сергеевича с бумагой от военного министра от 3-го июня 1826 года, в которой говорилось: «Коллежский асессор Грибоедов по повелению его императорского величества освобождён из-под ареста с выдачею аттестата, свидетельствующего о его невинности», – общество не связывало автора «Горя от ума» с участием в Северном и Южном обществах.
Как на декабриста на Чацкого первым посмотрел Герцен. До 1868 года такой взгляд на главного героя пьесы просто не существовал. А ведь 44 года прошло. Потом-то советское литературоведение подхватит эту трактовку. Но ни Пушкин, ни Вяземский, ни Булгарин, ни Белинский, ни Гончаров, ни Аполлон Григорьев не увидели в Александре Андреевиче человека, который должен был выйти в следующем 1825 году на Сенатскую площадь. Что говорили литераторы и критики о Чацком?
А.С.Пушкин: «Что такое Чацкий? Пылкий, благородный и добрый малый, проведший несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Всё, что говорит он, очень умно. Но кому говорит он всё это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека – с первого взгляду знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловыми…»
Вяземский, не отрицавший достоинств пьесы, обиделся на Грибоедова за Москву: она была совсем не той, какой видел ее Чацкий. В старой столице как раз было больше свободомыслия: «Вопреки Грибоедову и последователям, слепо поверившим на слово сатирическим выходкам его, оценка Петербурга и Москвы должна быть признана именно в обратном смысле, т.е. что в Москве было более разговоров и толков о делах общественных, нежели в Петербурге, где умы и побуждения развлекаются и поглощаются двором, обязанностями службы, исканием и личностями. Оно так и быть должно: в Петербурге – сцена, в Москве – зрители; в нём действуют, в ней судят».
Белинский поначалу встретил пьесу резко: «Что за глубокий человек Чацкий? — говорит он. — Это просто крикун, фразёр, идеальный шут, на каждом шагу профанирующий всё святое, о котором говорит… Это новый Дон-Кихот, мальчик на палочке верхом, который воображает, что сидит на лошади… Поэт не шутя хотел изобразить в Чацком идеал глубокого человека в противоречии с обществом, и вышло Бог знает что». Потом «неистовый Виссарион» смягчит оценку, ему откроется гений Грибоедова, но первому революционному демократу России и в голову не приходило делать Чацкого героем 14 декабря…
Можно продолжить цитирование оценок и многое найти в них интересного, но отыщем ли мы в них важнейшую – оценку действия главного героя пьесы и других её персонажей с позиций христианской нравственности? Чацкий может быть смешным шутом, благородным Дон-Кихотом, жертвой, борцом, обличителем, остроумцем, терзающимся, оскорбленным…Он резонер, он проповедник. Но нравственные портреты главного героя и других действующих лиц рисуются все же не только и, может быть, не столько в монологах Фамусова и Чацкого, имеющих прямой социальный адрес и укрепляющих презрение к России упомянутых Розановым выпускников университетов и гимназистов, сколько в замечаниях, нередко брошенных персонажами комедии вскользь.
«Грех не беда – молва не хороша»- говорит своей молодой госпоже Лиза. Чрезвычайно характерное замечание. Ловкая и умная субретка поняла, что лицемерие стало общественной нормой. Или вспомним, как Фамусов обращается к слуге Гришке: «Читай не так, как пономарь, а с чувством с толком, с расстановкой». Почему Павлу Афанасьевичу не нравится, как вычитываются богослужебные тексты? Надо полагать потому, что смысл их ему или непонятен, или скушен («будешь горе горевать, / за пяльцами сидеть, за святцами зевать» грозит он Софье в финале комедии). Вера в нём (да и в его дочери) не вызывает живого чувства. Но положение требует бывать на похоронах и, следовательно, на панихидах, на крестинах… «Я должен у вдовы у докторши крестить./Она не родила, но по расчету/По моему должна родить». Безмужняя докторша должна родить? Это не коробит Фамусова, одного из столпов общества? А, кстати, почему будущий крестный отец знает примерную дату появления новорожденного на свет? Речь ведь идет не о расчетах сроков, сделанных докторшей, что было бы логичнее, а самим Павлом Афанасьевичем. Текст Грибоедова не дает места для вариантов по данной ситуации. Возможно, сатирик просто так развлекает зрителя? Но «просто так» для «Горе от ума» как-то не характерны. Да и в памяти еще Лизино: «Пустите ветреники сами, /опомнитесь, вы старики». На что барин кокетливо отвечает: «Почти».
Словом, в отношении к церкви и соблюдения заповедей Павел Афанасьевич Фамусов – весьма вольнодумец. Существуют, правда, для него и людей его круга связанные с церковными установлениями формальности, которые нельзя не учитывать, но нетрудно и обойти. Софья: «Съедутся домашние друзья/ потанцевать под фортепьяно./ Великий Пост, так балу дать нельзя».
Разумеется, Грибоедов высмеивает здесь ханжество фамусовского общества. Но обратимся к главному герою, он ведь примет участие в этом вечере – его не смущают танцы в Великий Пост.
Итак, Александр Андреевич Чацкий. Он «три года не писал двух слов/И грянул вдруг как с облаков». Не с облаков, конечно: «Я сорок пять часов, глаз мигом не прищуря,/Верст более семьсот пронесся», – рассказывает Чацкий Софье о своем путешествии к ней. Примерно этому расстоянию соответствовала дорога из Питера до Москвы, проложенная во времена Петра. В Петербурге свили гнезда масонские ордена и руководимые ими тайные общества, целью которых является изменение государственного строя в России. Потому и несправедлив он к Москве, что его духовная столица – Петербург, где гнездились наследники Новикова и Радищева. Оставив за скобками вопрос, вышел бы Чацкий в декабре 1925 года на Сенатскую площадь («Горе от ума» написано годом раньше), нельзя не признать, что офицеры, решившиеся на восстание, симпатизировали главному герою пьесы, обличительный пафос его монологов был им достаточно близок.
В пьесе, правда, нигде прямо не говорится о принадлежности Чацкого к масонскому сообществу. Но прислушаемся к разговору, который Репетилов навязывает Александру Андреевичу, и иронические реплики последнего. Это же разговор профана с посвященным. Во-первых, Чацкий сразу разгадывает «тайну» Репетилова, задающего вопрос: «Зато спроси, где был?» И не может удержаться от иронии, по поводу того, что в Английском клубе «есть общество, и тайные собранья/ по вечерам. Секретнейший союз…»: «Ах! Я братец боюсь./ Как? В клубе?» Ну, какие могут быть тайные собранья в клубе? «Взашеи прогнать и вас и ваши тайны», желает недоумку посвященный. «Шумим, братец, шумим!» Здесь Александр Андревич чуть-чуть приоткрывается: «Шумите вы? и только?». Не шуметь, а делать нужно – вот подтекст этого диалога.
А что нужно делать? Вчера и сегодня – все то же. Масонская программа разрушения государства включает в себя разрушение государственных институтов («удары по штабам», говоря словами Михаила Горбачева, обращенными в наше время к шахтерам); разрушение армии, защищающей государство; разрушение семьи, как ячейки общества; минимизация влияния религии на общество.
Удары по штабам начинаются с рассказа Фамусова о екатерининском «вельможе в случае» – Максиме Петровиче. Память о веке Екатерины Великой была еще свежа. На троне сидел ее сын, поэтому двор матушки императрицы казался удобной мишенью для выстрела по самодержавию. Выстрел получился и произвел очевидное впечатление на общество.
Но, с точки зрения верности истории монолог Фамусова и ответное слово Чацкого едва ли выдерживает критику. Конечно, Максимы Петровичи – льстецы и, подхалимы – были, есть и будут всегда. Но в чём, пожалуй, нельзя упрекнуть Екатерину, так это в том, что она не отличала людей, не ценила их по уму и достоинству. Недаром её эпоха дала плеяду замечательных государственных мужей. Шутом позволял себе иногда быть Суворов, но то был Суворов! Державин однажды, в споре с Фелицей сгоряча схватил матушку за фалду платья. Императрица великодушно извинила своего кабинет-секретаря. Да и сановники в XVIII веке умели держать себя с достоинством. Когда в 1763 году произошли крестьянские мятежи на заводах Казанской и Симбирской губерний, матушка-императрица, сняв опалу (впрочем, кратковременную) с генерала Бибикова, вызвала его из рязанской вотчины, пригласила к себе, чтобы дать поручение, усмирить бунтовщиков. «Сарафан мой, сарафан, – отреагировал не лишенный чувства юмора Александр Ильич, – везде ты пригождаешься. А не нужен сарафан – под лавкой лежишь».
Следующий удар по штабам – монолог Чацкого «А судьи кто?». В нем, целью для выстрела является социальный строй, очень уязвимый с его крепостным правом и торговлей людьми. А чтобы звук выстрела услышали в армии, есть строки посвящённые мундиру: «Мундир! один мундир! Он в прежнем их быту»… Благо пришел защитник государства служака Скалозуб. Это не баловень судьбы, в полковники выбился из нижних чинов, он и по-французски-то не умеет: «Офицеров вам начтем /Что говорят иные по-французски», с гордостью говорит он Чацкому о своей Первой армии.
Для полковника автор комедии не пожалел сатирических красок :
.
В тринадцатом году мы отличились с братом
В тридцатом егерском, а после в сорок пятом…
За третье августа; засели мы в траншею:
Ему дан с бантом, мне на шею.
.
Речь, заметим, идёт об офицерах армии, девять лет назад победившей Наполеона и освободившей Европу. Кстати, 3 августа 1913 года Силезская русско-прусская армия Блюхера и Ланжерона начала крупные боевые действия. В итоге отступающие французы оставили всю артиллерию, которую под проливным дождём захватили русские войска. Так что Скалозуб с братом, если и засели в траншею, то из которой только что выбили неприятеля.
И опять напрашивается аналогия с современностью: в 90-х годах прошлого века, когда разваливали Советский Союз, над армией издевались и глумились, как только могли, разрушая важнейшую скрепу государства.
А как быть с семьёй, важнейшей ячейкой общества в государстве, которое надо разрушить?..
Александр Андреевич «верст больше семисот пронесся» и ворвался в гостиную к 17-летней девушке, с которой его связывала детская дружба, видит её весьма похорошевшей, в нем вскипает чувство. Он ждет ответного. А почему, собственно, она должна ему ответить тем же? Девушке надо было сохранять чувства, которые в Чацком не охладили «ни развлечения, ни перемена мест»? Может быть, и не охладили. Но… Вспомним реплику, брошенную Молчалину на его предложение искать покровительство у некой Татьяны Юрьевны: «Я езжу к женщинам, но только не за этим».
Взаимная любовь предполагает верность, ведет к созданию семьи, рождению и воспитанию детей. На это у Чацкого своя формула: «Но чтоб иметь детей/ кому ума недоставало». А вот образчик семьи, показанный Грибоедовым: старый друг Чацкого Платон Михайлович, еще недавно бравый офицер, попавший под каблук своей жены Натальи Дмитриевны: «Брат, женишься, тогда меня вспомянь!/От скуки будешь ты свистеть одно и то же». Словом, неверность – любви не помеха, а семья – скучная обуза. События сегодняшнего дня, когда проповедуется полная свобода в отношениях полов, а семью настойчиво и систематически разрушают, кажутся закономерным развитием интенций, обозначенных в пьесе Грибоедова 180 лет назад.
Наконец, вера – духовная основа личности, скрепа русской нации. Каково к ней отношение Чацкого? Вспомним его знаменитый диалог с Репетиловым. Последний в экстазе самобичевания, рассказывает о себе:
.
…Пил мертвую! Не спал ночей по девяти!
Все отвергал: законы! совесть! веру!
.
При последнем слове Чацкий раздражено бросает собеседнику:
.
Послушай! Ври, да знай же меру;
Есть от чего в отчаянье прийти…
.
Почему-то упоминания о вере и о Боге выводят из себя Александра Андреевича. Пылкие душепризнания Репетилова: «Пускай умру на месте этом, /да разразит меня Господь» – Чацкий грубо обрывает: «Да полно вздор молоть».
Заметим, что подобные замечания героя популярной пьесы не коробили слух зрителя и воспринимались, видимо, с пониманием, а то и сочувствием.
Не говорит ли это о том, что общество тогда уже было готово отойти от Церкви, чему небезуспешно способствовала набравшая силу масонская пропаганда, многочисленные сектантские проповедники. Секта духоносцев, например, распространяла пользовавшиеся популярностью «мистические книги», в которых, как отмечал протоиерей Георгий Фроловский «можно было прочитать о тьме нелепостей и суеверий, называемых Греко-Католическим Восточным исповеданием».
Впрочем, надо отдать должное, Грибоедов не заходил так далеко, чтобы его можно было упрекнуть в отрицании Православия. В пьесе звучит тема борьбы с низкопоклонством перед Европой. Прекрасен монолог Чацкого в конце III действия. Приведу несколько строк:
.
Я одаль воссылал желанья
Смиренные, однако вслух,
Чтоб истребил Господь нечистый этот дух
Пустого, рабского, слепого подражанья,
Чтоб искру заронил Он в ком-нибудь с душой,
Кто мог бы словом и примером
Нас удержать, как крепкою возжой,
От жалкой тошноты по стороне чужой,
Пускай меня объявят старовером…
.
Здесь, конечно, в Чацком вполне выговаривается русский человек и он, заметим, признаётся, что обращается к Господу. Герой пьесы в этом монологе рассказывает случай, действительно происшедший с Грибоедовым в Петербурге в 1816 году и послуживший импульсом к созданию великой пьесы.
На одном из светских вечеров он был поражён тем, как вся публика преклоняется перед иностранцами, она окружила вниманием и заботой какого-то болтливого француза. Оскорбленный Александр Сергеевич не сдержался и выступил с обличительной речью. В это время кто-то из публики сказал, что Грибоедов безумен. Слух о его сумасшествии был пущен по Петербургу. Монолог Чацкого, увы, тоже, как и в описанном случае из жизни автора, произносится в пустоту – все оставляют его: с величайшим усердием кружатся в вальсе или сидят за карточными столиками…
Но, отдавая должное патриотизму Чацкого, стоит заметить, что его пожелание изоляционизма:
.
Ах, если рождены мы всё перенимать,
Хоть у китайцев бы нам несколько занять
Их мудрого незнанья иноземцев… —
.
соответствовало тогдашней масонской идеологии, в частности ордена розенкрейцеров. Отдельные ложи выступали за национальное обособление. Священный союз европейских монархов стоял преградой развитию революционного движения – изоляционизм был призван ослабить их соединенную мощь.
Комедия «Горе от ума» – произведение идеологическое. Автор создал гениальную пьесу, отражающую масонскую антихристианскую идеологию и горячо воспринятую либеральной частью русского общества. В пьесе убедительно, показано оскудение веры, засилье лицемерия и фарисейства, пороки чиновничьей бюрократии. Но правда здесь талантливо и страстно нередко служит неправде. Что же касается Александра Андреевича Чацкого, то он, с одной стороны, отрицает фамусовское общество, с другой, – ищет контакта с ним: ведь Софья типичный представитель того круга, с которым герой пьесы в конце концов гордо порывает («Довольно! С вами я горжусь моим разрывом!» – говорит он той, кому еще сегодня признавался в любви); и, как точно отмечает И.А.Гончаров, «кипит бешенством»:
.
Теперь не худо было б сряду
На дочь и на отца
И на любовника-глупца,
И на весь мир излить всю желчь и всю досаду.
.
Здесь поистине люциферианский взрыв ненависти, здесь язык демона, который, подобно герою поэмы Лермонтова, «все живущее клянёт». Понятно, из чего он возник этот взрыв, где копилось взрывчатое вещество ненависти, вырвавшееся из эгоистического сердца, вдруг полюбившего и отвергнутого. Любовь бессмысленна, семья – обуза. Вера – не нужна. Армия, общество, государство – все достойно лишь разрушения.
«Горе от ума» произведение сложное, полное неразгаданных до конца смыслов. Идеологические штампы, восходящие к Герцену мешали и мешают до сих пор непредвзято оценить гениальную пьесу во всем ее противоречивом многообразии. С «Горе от ума» начинается критический реализм (куда более критический, чем реализм пушкинский, давший свободу не столько отрицать, сколько «смотреть на вещи без боязни»). Дух отрицанья, живущий в Чацком, пожалуй, посильнее «байроновского мятежа и муки отчужденности гордого человека» (Вячеслав Иванов). Окажутся ли пророческими слова Гончарова: «Русская литература никогда не выбьется из круга, очерченного Грибоедовым», и прав Солоневич, видевший в классиках русской литературы виновников Октябрьской революции?
Поживи Грибоедов дольше, он, может быть, сам бы разрешил этот вопрос. Он не ждал скорой смерти. «Я два месяца как женат, люблю жену без памяти», – писал Александр Сергеевич перед отъездом в Тегеран. Грибоедов искал себе достойное поприще и нашел его – поприще дипломатическое. «Мало надеюсь на свое умение, и много – на русского Бога… У меня государево дело первое и главное, а мои собственные ни в грош не ставлю». Разве прежний Грибоедов, автор разоблачительных монологов мог такое сказать? «В душе его, – отмечает современный историк Константин Ковалев-Случевский, — зарождаются новые чаяния, радостные предположения, неясные надежды. Он о себе пишет, что стал «неизменный в своих чувствах, но в быту, в роде жизни, в различных похождениях не похожим на себя прежнего, на прошлогоднего, на вчерашнего даже». «С каждой луною, – добавляет он, – со мной сбывается что-нибудь, о чём не думал, не гадал»…Вот какого Грибоедова – «не похожего на себя прежнего» – мы потеряли. Ещё неузнанного».
Владимир Смык
По материалам: webkamerton.ru
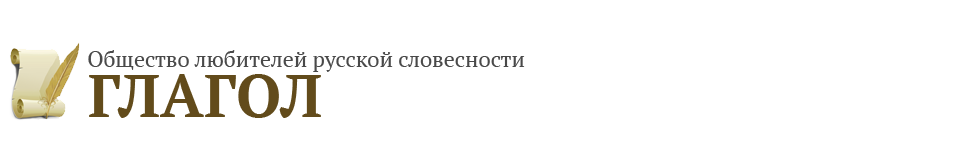


 (3 votes, average: 3,67 out of 5)
(3 votes, average: 3,67 out of 5)