Сергей Беляков. Гностик из Уржума. Заметки о натурфилософских взглядах Н.А. Заболоцкого

1
Не приходилось ли вам сталкиваться с таким странным явлением: мысли древних философов, чья жизнь, протекавшая либо в добровольном затворничестве, либо в водовороте интриг при дворе какого-нибудь деспота-мецената, давным-давно иссякла, кажутся нам современными, словно автор не записал их на рулоне папируса, а совсем недавно набрал на клавиатуре пентиума, и, вместо того чтобы ознакомить с ними десяток учеников, запустил в море космополитичного интернета. Разумеется, стилистика и бытовой контекст помогают отделить старое от нового, но суть философских идей совпадает настолько, что возникает подозрение: уж не плагиат ли это? Но ведь бывают случаи, когда плагиат исключён, т.к. доподлинно известно, что современный автор не был знаком с идеями древних философов, и тем не менее….
“Кто заставил меня жить в Тибиле, кто бросил меня в телесный обрубок? Мои глаза, которые были открыты жилищу света, теперь принадлежат обрубку. Моё сердце, стремящееся к жизни, пришло сюда и стало частью обрубка… Как я должен успокоить свой ум… как я должен стонать! Как должно… кроткое Слово Отца обитать среди созданий тьмы”.
(Из священного текста секты мандеев)
Опять ты, природа, меня обманула,
Опять провела меня за нос, как сводня!
Во имя чего среди ливня и гула
Опять как безумный брожу я сегодня?
В который ты раз мне твердишь, потаскуха,
Что здесь, на пороге всеобщего тленья,
Не место бессмертным иллюзиям духа,
Что жизнь продолжается только мгновенье!
(Н.Заболоцкий. “Читайте, деревья, стихи Гезиода”)
Не странно ли сходство настроений неизвестного древнего автора, жившего в низовьях Евфрата, и русского поэта середины XX века, уроженца уржумского уезда вятской губернии? А быть может, оно не случайно?
Что бы ни говорили о прогрессе, человек меняется мало. Да, изменяются условия жизни, быт, но сама-то человеческая природа остаётся неизменной, а раз так, то логично предположить, что люди определённого склада могли жить и в древности, и в средние века, и в XX веке.
Николай Алексеевич Заболотский (так звучала его фамилия, пока он в начале 1920-х не сменил тс на звучное ц) родился 24 апреля (7 мая) 1903 г. в Казани, в семье землемера, а детство провёл в селе Сернур Уржумского уезда Вятской губернии. Учился в реальном училище в том же Уржуме. В 1920 г. Заболоцкий поехал в Москву, где поступил на медицинский факультет Московского университета, но, проучившись всего семестр, вынужден был уехать из голодного города. На следующий год он отправился в Петроград, где поступил на отделение русского языка и литературы Педагогического института, которое успешно окончил в 1925 г. Стихи Заболоцкий писал с юности, но, к сожалению, из его ранних вещей мало что сохранилось. “Настоящий” Заболоцкий начинается с 1926 года, когда были написаны первые стихотворения, вошедшие в изданную в 1929 г. книгу “Столбцы”. Успех “Столбцов”, несмотря на убийственные рецензии советской критики, был огромный. Уже одной этой книгой в 22 стихотворения он вошёл в историю литературы. Автор “Столбцов” стал одной из самых ярких фигур русского модернизма. Однако в его блестящих, неожиданных, живописных (Пастернаку они казались картинами в рамах) стихах была какая-то странность (совсем непохожая на странности того же Хармса, коллеги Заболоцкого по Обериу). Для многих “Столбцы” так и остались загадкой. Литературовед Д.Е. Максимов писал: “Эти стихи притягивали какой-то органической странностью… заключённым в них невыразимым, но гипнотически действующим “третьим смыслом”. Часто пишут о том, что Заболоцкий в своих столбцах1 якобы воспевал радости жизни, восхвалял мир материального изобилия. Что ж, приведу пример подобного “воспевания”:
Сверкают саблями селёдки,
Их глазки маленькие кротки,
Но вот — разрезаны ножом —
Они свиваются ужом;
И мясо властью топора
Лежит, как красная дыра;
И колбаса кишкой кровавой
В жаровне плавает корявой…
(“На рынке”)
Для сравнения приведу несколько строк настоящего певца изобилия, Державина:
Багряна ветчина, зелёны щи с желтком,
Румяно жёлт пирог, сыр белый, раки красны,
Что смоль, янтарь-икра, и с голубым пером
Там щука пёстрая — прекрасны.
(“Евгению. Жизнь званская”)
Там славный окорок вестфальский,
Там звенья рыбы астраханской,
Там плов и пироги стоят;
Шампанским вафли запиваю
И всё на свете забываю
Средь вин, сластей и аромат.
(“Фелица”)
Что общего с этим гимном еде у “кротких селёдок” Заболоцкого? А “красная дыра” мяса и “кишка кровавая”? Кстати, кишка — очень характерный для раннего Заболоцкого образ: “кишки дрожат, как готтентотки” (“Рыбная лавка”), “кишечная тюрьма” (“Деревья”). Кишка у Заболоцкого — один из символов материальности, природы, связанный, разумеется, с пищеварением. А к этому естественному процессу автор “Царицы мух” относился весьма неприязненно.
“Рыбная лавка” и “Бессмертие” (другие названия этого стихотворения — “Сад пыток”, “На лестницах”) не вошли в книгу “Столбцы”, но тематически и стилистически они близки к ним. Рыбная лавка изображается поэтом как сущий кошмар, царство страданий и смерти:
Ревут сиги, вскочив в ушат,
Ножи, торчащие из ранок,
Качаются и дребезжат,
…………………………
Где за стеклянною стеной
Плывут лещи, объяты бредом,
Галлюцинацией, тоской,
Сомненьем, может быть тревогой?
И смерть над ними, как торгаш
Поводит бронзовой острогой.
От этих строк лежит прямая дорога к философской поэзии, к “Лодейникову”, а объятые бредом лещи — это начало темы сна, забытья природы.
“Бессмертие” — самый страшный столбец Заболоцкого. Опубликован он был впервые в 1965 году (для сравнения — лагерное “Где-то в поле возле Магадана”напечатали тремя годами раньше), что, впрочем, неудивительно. Легко себе представить изумление советского цензора при чтении этого в высшей степени странного текста. Вначале столбца изображается мир чувственности, плотской любви:
Нагие кошечки, стесняясь,
Друг к дружке жмутся, извиняясь,
Кокетки! Сколько их кругом!
Они по кругу ходят боком,
Они текут любовным соком,
Они трясутся на весь дом,
Распространяя запах страсти.
Коты ревут, открывши пасти…
Во второй строфе появляется кот-отшельник, “монах помойного ведра”. Он противостоит и развратным котам, и в целом материальному миру, где “от плиты и до сортира лишь бабьи туловища скачут”. Мир вновь предстаёт царством ужаса, мучений, смерти:
Там примус выстроен, как дыба,
На нём, от ужаса треща,
Чахоточная воет рыба
В зелёных масляных прыщах;
Там трупы вымытых животных
Лежат на противнях холодных
И чугуны — купели слёз—
Венчают зла апофеоз.
Как видим, апофеоз зла для автора “На лестницах” — приготовление обеда, мирное вроде бы занятие, но для него оно сопряжено с убийством и разделыванием трупов! Обратите внимание, в столбцах ещё нет философских построений, там чистый, не затуманенный чужими идеями взгляд на мир. Столбцы — своеобразные натюрморты. Их часто и сравнивают с натюрмортами Машкова и Лентулова. Но насколько не похож взгляд Заболоцкого на взгляд этих жизнерадостных авангардистов, певцов цвета и ярких красок. “Картины” Заболоцкого, быть может, и ярки, но, на мой взгляд, они возвращают слову “натюрморт” первоначальный смысл — “мёртвая натура”. Чем объяснить подобный взгляд на мир? Тяжкая, беспросветная жизнь в нищете? Но многие современники Заболоцкого (тот же Хармс, например) жили куда беднее. Да и в стихах автора “Осенних примет” нет жалоб на бедность. Нет в них социальных мотивов, а есть отвращение к самой природе бытия, к существующим формам жизни. Но может быть, это всего лишь литературная игра? Не похоже, ведь тема несправедливости, нет — преступности мироустройства, станет едва ли не главной в его творчестве. Остаётся предположить, что подобный взгляд на мир связан со своеобразным мироощущением поэта. А именно с жизнеотрицающим мироощущением (термин Льва Николаевича Гумилёва, ему принадлежит и открытие этого феномена).
Встречаются люди, которым кажется несправедливым существующий порядок вещей, когда люди и другие живые существа ради пропитания вынуждены убивать (и съедать) животных и растения. Таким людям жизнь представляется сущим кошмаром. Она полна страданий и бед, грехов и преступлений. Её радости — лишь перерывы в бесконечной череде разнообразных мучений. Короче, жить в этом мире им не особо нравится, а потому они, как правило, мечтают поскорей попасть в иной мир, мир, не имеющий к нашему материальному никакого отношения. В соответствии со своей природой они создают религиозные и философские учения. Для того, чтобы отделить такие “философемы” от “нормальных” религий, Л.Н. Гумилёв предложил простой критерий: отношение к биосфере, шире — к природе, к мирозданию. Если мир — творение Божие, значит, это, скорее всего, религия “положительная”. Если мир — создание Сатаны, “ошибка” Создателя и т.п., если он рассматривается лишь как юдоль страданий, значит перед нами религия (философская система) негативная, жизнеотрицающая — антисистема. К антисистемам Гумилёв отнёс гностицизм, манихейство, многие средневековые ереси (альбигойство, богомильство, павликианство, исмаилизм). Многие современные “тоталитарные секты” отвечают всем признакам антисистемы.
“Прадедушкой” большинства европейских и ближневосточных антисистем был гностицизм — учение, точнее, группа более или менее близких жизнеотрицающих учений, что были распространены во II—III веках нашей эры в Римской империи и в Иране. Заболоцкий не был знаком с гностицизмом. Об этом мы можем говорить достаточно уверенно. Дело в том, что автор “Битвы слонов”, кажется, не имел распространённой у интеллигенции привычки читать “по диагонали”. Судя по воспоминаниям сына поэта, Никиты Заболоцкого, его отец если брался читать, то читал внимательно, и его круг чтения был достаточно хорошо известен близким. Религиозной философией он не увлекался, Вл. Соловьёва (у которого он мог бы почерпнуть кое-что о гностицизме) не читал, равно как и Николая Фёдорова (что ему упорно приписывают). Если б он вдруг взялся читать специальную литературу о гностицизме, то об этом наверняка стало бы известно его близким. В своих философских поисках он поначалу избрал тропинку “самобытного мудреца” (его собственный термин), которая вывела поэта на совершенно неожиданную дорогу.
2
С 1929 года Заболоцкий всё чаще обращается к теме природы, на неё он переносит всё то, что в “Столбцах” относилось к материальному миру вообще. В творчестве поэта начинается натурфилософский период. В стихотворениях и поэмах 1929—1932 гг. просматриваются наброски, фрагменты авторской концепции природы, мироздания. В ней чётко прослеживаются мироотрицающие взгляды автора. Причём многие мотивы, мысли в этих стихах удивительно напоминают воззрения гностиков.
Под “гнозисом” во II—III веках понималось познание надмирного, трансцендентного Божества (т.е. познание принципиально непознаваемого), “познание тайн существования… познание божественной истории, от которой произошёл мир, положение человека в нём и природа спасения… познание пути будущего восхождения души и правильной жизни, подготавливающей к этому событию”2 . Атеист Заболоцкий не помышлял о надмирном Боге. Он не мог вообразить существование чего-либо трансцендентного, но он не принимал мир, природу, следовательно, был чужд ему как настоящий гностик. Сам Заболоцкий всегда (даже когда отрицал это) противопоставлял природе разум. Разум был его “плеромой”, его “стихией света”, его божеством, а значит, объектами почитания становились разум, познание, наука. Под познанием (т.е. гнозисом) Заболоцкий понимал прежде всего познание тайн природы, мироздания (не столько человеком, сколько животными). Познание становилось и средством спасения, т.к. преображенная разумом природа должна превратиться в свою противоположенность. В этой антиприроде не будет ни поедания животными друг друга, ни тяжкого труда, ни, очевидно, полового размножения. Главное же, не будет смерти. Тема спасения страдающей природы гнозисом — центральная тема натурфилософских поэм “Торжество земледелия”, “Безумный волк” и стихотворений “Школа жуков”, “Венчание плодами”. В “Торжестве земледелия” людям и животным гнозис приносит солдат. Рассказывая сон, он представляет животным их счастливое будущее, к которому им должно стремиться:
Там кони — химии друзья —
Хлебали щи из ста молекул.
………………………………
Корова в формулах и лентах
Пекла пирог из элементов,
И перед нею в банке рос
Большой химический овёс.
…………………………….
Там учат бабочек труду,
Ужу дают урок науки —
Как делать пряжу и слюду,
Как шить перчатки или брюки.
Здесь волк с железным микроскопом
Звезду вечернюю поёт,
Здесь конь с редиской и укропом
Беседы длинные ведёт.
И хоры стройные людей,
Покинув пастбища эфира,
Спускаются на стогны мира
Отведать пищи лебедей!
В лучшей, на мой взгляд, поэме Заболоцкого “Безумный волк” носителем гнозиса становится волк, услышавший зов (мотив типично гностический) звезды и “воспылавший” жаждой познания. Волк занимается “научными” исследованиями, проводит эксперименты, которые заключаются главным образом в нарушении законов природы. Волк открывает “множество законов”, но это не законы природы, а скорее законы того идеального мира, который автор противопоставляет миру реальному. Волк “воспитывает” из растения собачку, сам пытается стать растением, овладеть левитацией. В 3-й главе поэмы пред читателем появляются уже другие волки, овладевшие гнозисом (видимо, вдохновлённые примером Безумного): волки-музыканты, волки-доктора, волки-инженеры… Волки строят “новый лес” (новый мир) — анти-лес по отношению к старому лесу (миру). “Волк ест пирог и пишет интеграл”. Волки-инженеры конструируют “электрических мужичков”, которые должны печь им пирожки. Причём речь, видимо, идёт о пирогах “из ста молекул”, ибо просвещённые волки перестали охотиться. В старом лесу продолжается “вековечная давильня” природы:
Лес, полный горя, голода и бед,
Стоит вдали как огненный сосед.
Глядите, звери, в этот лес —
Медведь в лесу кобылу ест.
<…>
Едомый зверем, плачет вол,
А мы, построив свой квартал,
Волшебный пишем интеграл.
Глядите, звери, в этот мир —
Там зверь ютится наг и сир,
А мы, подняв науки меч,
Идём от мира зло отсечь.
В стихотворении “Венчание плодами” Мичурин и Лютер Бербанк предстают не талантливыми селекционерами, а спасителями страдающих растений. Создав искусственный мир, они спасают растения от ужасов мира реального:
Когда землёй невежественно правил
животному подобный человек —
напоминали вы уродцев и калек,
…………………………………..
вас червь глодал и, налетая тучей,
хлестал вас град по маленьким телам,
и ястреб — рощи царь — посереди ночи
выклёвывал из вас сияющие очи…
<…>
Теперь, когда, соперничая с тучей,
плоды, мы вызвали вас к жизни наилучшей,
когда для вас построены дома,
чтоб расцвели зародыши ума,
чтоб мысли в вас окрепли и созрели
………………………………………
…Чтобы длинные листы
могли владеть пером…
В гностических текстах земное существование часто описывается через метафоры сна, опьянения, забвения. “Эта серия метафор уникально гностическая. Душа спит в материи, люди вообще спят в этом мире”, как пишет уже цитированный Г. Йонас. У Заболоцкого жизнь природы также часто описывается как сон. Возьмём, к примеру, одно из лучших, на мой взгляд, его стихотворений натурфилософского периода “Меркнут знаки Зодиака”. Сам Заболоцкий в письме к своей невесте дал “инструкцию” о том, как надо читать это стихотворение: “Первые два куска читать монотонно, как бы в полусне. Следующие два кусочка — о разуме — с чувством, с подъёмом, чуть-чуть риторично. А последний кусочек опять монотонно-монотонно”. В первых 36 строках происходит вялая фантасмагория, участники которой либо спят, либо свершают некие действия сомнамбулического характера:
Ведьма, сев на треугольник,
Превращается в дымок,
С лешачихами покойник
Стройно пляшет кекуок.
Вслед за ними бледным хором
Ловят муху колдуны,
И стоит над косогором
Неподвижный лик луны.
Интересно, что во всех трёх строфах, где описывается природа, присутствует луна. Она господствует над природой, более того, она как бы задаёт ритм природе, управляя демонами-лунатиками. Луна неподвижна, а природа находится в хаотическом движении, но хаос не позволяет куда-либо направлено двигаться — это кружение на месте. В природе царит не гармония, а хаос. Спящие животные и сомнамбулы живут в мире без развития (истории). В этот монотонный ритм природы врывается совершенно чуждая, беспокойная нота:
Разум мой! Уродцы эти
Непонятны для людей.
В тесном торжище природы,
В нищете, в грязи, в пыли
Что ж ты бьёшься, царь свободы,
Беспокойный прах земли?
Разум чужд этому миру, его пребывание в природе случайно и неестественно. Правда, позднее поэт переделал эту строфу в соответствии со своими новыми взглядами на природу (см. ниже). Завершается стихотворение описанием того же сна природы, в который погружается и разум. С гностической точки зрения Заболоцкий описал реальное состояние природы, где спит разум человека, спит сознание в растениях и животных. Сон и оцепенение не раз встречаются у Заболоцкого в связи с темой природы. В стихотворении “Засуха” — “В смертельном обмороке бедная река”. В “Начале зимы” речь идёт уже не о сне, а прямо о смерти:
Река дрожит и, чуя смертный час,
уже открыть не может томных глаз,
и всё её беспомощное тело
вдруг страшно вытянулось и оцепенело.
<…>
Я наблюдал, как речка умирала
Не день, не два, но только этот миг…
<…>
И речка, вероятно, еле билась,
Затвердевая в каменном гробу.
Это же сущий кошмар, ад, царство смерти! В стихотворении “Прогулка” “смеётся вся природа, умирая каждый миг”. В “Севере” вода “рек прекрасных” течёт в “желобах гробообразных”. В “Торжестве земледелия” смерть господствует над природой:
Корова мёртвая наброшена
На кости рваные овечек,
Подале, осердясь на коршуна,
Собака чей-то труп калечит.
Кой-где копыто, дотлевая,
Даёт питание растению,
И череп сорванный седлает
Червяк, сопутствуя гниению.
<…>
…всё окаменело,
Охвачено сознаньем грубым,
Животных составное тело
Имело сходство с бледным трупом.
Неслучайно солдату, несущему познание крестьянам и животным, противостоят предки, т.е. этот мир, природу защищают трупы!
Природа так устроена, что живые существа вынуждены поедать друг друга, а значит, в основании жизни лежит чья-то смерть, более того, смерть насильственная. Потому-то в близком гностицизму манихействе питание считалось злом. К тому же поглощение “частиц Света”, которые, по представлениям манихеев, содержатся в растениях и животных, задерживает эти частицы в материальном мире, в то время как они стремятся воссоединиться со “Стихией Света”. Но питаться как-то надо даже манихеям, а потому им рекомендовалось хотя бы “избегать повреждения Света в его чувственной форме у животных” (Йонас). Другими словами, им рекомендовалось вегетарианство. Однако Заболоцкий пошёл ещё дальше: “убийство” растений для него не меньшее преступление, чем убийство животных. В стихотворении “Обед” картофелины “мечутся в кастрюльке, головками младенческими шевеля”, заканчивается оно призывом опуститься на колени “перед кипящею кастрюлькой овощей”. Вообще Заболоцкий при случае не забывает напомнить, что мы питаемся трупами: “трупы вымытых животных” (“На лестницах”), “груда брёвен зажигалась, чтобы сварить убитое животное” (“Осень”). Несчастная корова — убийца растений, человек, отобедавший говядиной, — одновременно убийца коровы и убийца растений.
Природа связывается у Заболоцкого и с тюрьмой. Природа и тюрьма для него синонимы (“Осень”). В “Прогулке” “вся природа улыбнулась, как высокая тюрьма”, в “Змеях” “природа, вмиг наскучив, как тюрьма стоит над ним”. Безумный волк говорит: “А на земле я точно пленный”. В уже знакомой нам “Осени” описываются мучения духа, пленённого материей:
…и вся его [дерева] душа
Как будто хочет вырваться из древесины,
но сучья заплелись в огромные корзины,
и корни крепки, и земля кругом,
и нету выхода, и дерево с открытым ртом
стоит, сражаясь с воздухом и плача.
Аналогичный мотив мы встречаем и у гностиков. Мир был для них темницей духа (“пневмы). Пневма заключена в материи, как в тюрьме. Она отделена от Божества многими мирами (“небесами”, “эонами”), которыми управляют враждебные архонты. Эти космические надзиратели мешают духу воссоединиться с Божеством, мешают посланцу Божества нести в этот мир гнозис.
У гностиков пневма чужда миру (космосу). Посланец Божества (Плеромы, Стихии Света), которого они обычно отождествляли с Христом, также чужд миру. Чужаками предстают и носители познания у Заболоцкого. В “Торжестве земледелия” это, как мы помним, солдат. Откуда он пришёл в деревню, неизвестно. Вообще в русском фольклоре солдат по отношению к деревне фигура маргинальная. Просвещённые волки, строящие “новый лес”, тоже чужие для других зверей:
Мечты Безумного нелепы,
Но видит каждый, кто не слеп:
Любой из нас, пекущих хлебы,
Для мира старого нелеп.
(“Безумный волк”)
Думаю, любой достаточно внимательный читатель Заболоцкого без труда заключит, что в природе поэту наиболее симпатичны растения. Это понятно, ведь растения, как правило, не поедают живых существ (о плотоядных растениях Заболоцкий, очевидно, не знал). Интересно, что у манихеев растения считались “наиболее пассивной и единственно невинной формой жизни”. Конечно, “злаки, травы и все корни, и деревья суть творения тьмы”, но растительный мир также являлся “сферой Иисуса Потибилиса” (страдающего Иисуса) который является воплощением всего Света, смешанного с материей.
Гностики и манихеи относились к сексу и половому размножению отрицательно, ибо первый мешает сосредоточиться на мироотрицании, а второе (у манихеев) не только продляет пленение частиц Света (духа), но и способствует его рассредоточению в мире, что тоже плохо. Вообще человеческое тело для манихеев (не только для них, правда) не что иное, как дьявольская субстанция. У Заболоцкого мы уже встречали отрицание половой любви (“На лестницах”), в “Торжестве земледелия” поэт идёт дальше — отрицает и материнство:
Ночью, лёжа на кровати,
Вижу голую жену —
Вот она сидит без платья,
Поднимаясь в вышину…
…………………………
Предки, разве правда в этом?
<…>
Хорошо, но как понять,
Чем приятна эта мать?
<…>
Не пойдём ли мы обратно,
Если будем лишь рожать?
Многие, наверно, будут удивлены несоответствием между философией автора “Безумного волка” и его отнюдь не аскетическим образом жизни. Заболоцкий никогда не был вегетарианцем, любил хорошее вино. Ему по вкусу пришлись грузинские застолья, от которых, впрочем, переводчик Орбелиани и Гурамишвили не мог бы отказаться, даже если б хотел. Когда появилась возможность, приобрёл дорогую мебель. Но что это доказывает? Ведь даже для самых суровых гностиков (таких, как Маркион) аскеза была всего лишь средством спасения (и то не основным), логично вытекающим из отлично разработанных мироотрицающих концепций. Подобной концепции Заболоцкий не разработал. К тому же пост для автора “Деревьев” был бессмыслен: между убийством животного и растения для него не было разницы. Что касается секса, то есть сведения о том, что поэт одно время задумывался о воздержании от плотской любви. Четвёртая глава “Торжества земледелия”, в которой присутствует мотив воздержания от секса, была написана как раз в то время, когда Заболоцкий неожиданно отказал своей невесте: “Все женщины сейчас очень далеки от меня. Часто мне кажется, что судьба готовит мне одинокую жизнь”, — писал он ей 21 августа 1929 г. Правда, через несколько месяцев Заболоцкий передумал, но интересно, что он так и не посвятил жене ни одного стихотворения. Вообще, любовная лирика появится у поэта лишь под старость, в 1950-е.
К сожалению, у нас очень мало достоверных (да и недостоверных) сведений о личной жизни известных гностиков. Поэтому мы не можем сравнивать соотношение философии и личной жизни у Заболоцкого и, скажем, у Василида. Впрочем, известно, что у него, как и у Заболоцкого, был сын. Сын был и у гностика Карпократа. Кстати, весьма любопытный субъект. Звали его Епифаний. Уже в 17 лет он сочинил трактат “О справедливости”, где проповедовал равенство и свободную любовь. Симон Волхв (Симон Маг), которого христианские авторы называли “отцом ересей” и первым гностиком (он был современник апостолов), водил за собой некую Елену. Он подобрал её в публичном доме и объявил “последним и самым непритязательным воплощением падшей “Мысли Бога” (Йонас). Однако о характере его взаимоотношений с этой “Мыслью” мы можем лишь догадываться. Гностик Николай требовал общности жен. Св. Ириней Лионский обвинял гностика Марка в совращении (отнюдь не в богословском смысле слова) женщин, чем он объяснял тот факт, что у Марка было много женщин-учениц. Эти свидетельства говорят о том, что и отрицавшие мир не были чужды радостям плоти, а значит, противоречие между философскими взглядами Заболоцкого и его образом жизни не так уж необъяснимо.
Неприятие мироустройства, отвращение к “людоедства страшным чертам” переходит у поэта в ненависть к природе. Она враг, который подлежит уничтожению. По свидетельству И. Синельникова, Заболоцкому очень нравились следующие строки Тютчева:
Когда пробьёт последний час природы,
Состав частей разрушится земных,
Всё зримое опять покроют воды,
И Божий лик изобразится в них.
(“Последний катаклизм”)
Причём особенно ему нравился стих “Состав частей разрушится земных”.
Значит, он мечтал ни много ни мало об апокалипсисе! В одном из первых вариантов “Искусства” были следующие строки:
И над трупом всей природы,
Над могилой жития,
Человек — дитя свободы —
Бросит заступ бытия.
Нужен ли здесь комментарий?
3
И всё же Заболоцкий был не философом, а философствующим поэтом. Он не стремился разрабатывать собственную философскую систему. Где-то с 1932 года поэт пошёл по вредному для “самобытного мудреца” пути: он начал искать ответы на интересовавшие его вопросы в книгах. Будучи человеком просвещённым, он искал их не у любимого им Хлебникова, не у Сковороды, не у Платона (влияние которого на творчество Заболоцкого, кажется, ограничивается стихотворением “Подводный город”), а у Вернадского, Тимирязева, Циолковского. Впрочем, эту троицу нельзя перечислять через запятую. Философские идеи Константина Эдуардовича Циолковского не имели ничего общего с научным мировоззрением, которого придерживались Тимирязев и Вернадский. Идеи Циолковского были особенно близки автору “Торжества земледелия”. Впрочем, судите сами.
“Состояние растений и животных” не удовлетворяет учёного: их “нещадно уничтожают паразиты, они терпят холод, жару… засуху, ветры”. Они “не знают ни своего прошедшего, ни будущего, ни пути к счастью. Низшие малочувствительны и потому (как растения) мало страдают от взаимного истребления, но высшие чувствуют сильнее; взаимное их жестокое поедание едва ли доставляет им удовольствие. Вернее, это вечный ад”3 . Ба! Знакомые всё мысли! Человечество, с точки зрения Циолковского, плохо тем, что малосознательно, малообразованно: “Его представления о мире близки к представлениям пятилетних детей и высших животных (т.е. опять-таки человечество нуждается в гнозисе. — С.Б.)… милосердие выходит из пределов разумного … милосердие это превратилось в жестокость, так как способствует размножению (выделено Циолковским. — С.Б.) несовершенного и несчастного <…> перед их (людей. — С.Б.) глазами только гаденькая никому не нужная жизнь, грязная могильная яма и конец”4 . В другой своей работе, “Монизм Вселенной”, Циолковский выдвинул гипотезу, согласно которой атомы (их учёный, чьё научное мировоззрение сформировалось ещё до открытия радиораспада, считал “первокирпичиками” материи) обладают чувствительностью. В неорганическом веществе они нечувствительны, в растениях малочувствительны, но в высших животных и в человеке “чувствительность проявляется во всём блеске”5 . “То он (атом. — С.Б.) спит, не сознавая времени, как низшие существа, то сознаёт прошедшее и рисует картину будущего <…> мозг и душа смертны… Но атомы или частицы их бессмертны, и потому, сгнивая, материя опять восстанавливается и опять даёт жизнь, по закону прогресса (это ещё что за закон? — С.Б.) ещё более совершенную”. Циолковский, убеждённый в благости и неизбежности прогресса, описывает картины светлого будущего: “Сначала исчезнут вредные животные и растения, потом избавятся и от домашних животных. В конце концов, кроме низших существ, растений и человека, никого не останется”. Мир животных предлагается уничтожить по той причине, что в их телах “страдают” атомы. Растениям повезло больше: они будут “усовершенствованы”, а у людей “исчезнут из характера низшие животные инстинкты… исчезнут унижающие нас половые акты”6 . В связи с этими чувствительными атомами вспоминается и платоновский “раскормленный” электрон из “Эфирного тракта”, и слова из “Дара” Набокова: “Всякая вещь, попадая в фокус человеческого мышления, одухотворяется… так материя у самых лучших знатоков её обратилась в бесплотную игру таинственных сил”. Но беда в том, что не знал ещё Константин Эдуардович о природных экосистемах, а потому делил животных и растения на “вредные” и “полезные”. Не знал он об аннигиляции и антивеществе, а радиораспад и конечность Вселенной Циолковский в собственных философских построениях не учитывал. Впрочем, изучение философских взглядов Циолковского тема особая. Пусть ею займётся человек, более сведущий в физике и математике, чем автор этих строк. А мы вернёмся к Заболоцкому.
К самому Циолковскому, к его идеям он относился с особым пиететом. Заболоцкий завязал с ним переписку, обсуждая проблему наиболее безболезненного спасения живых существ от страданий. Поэт не соглашался с идеей уничтожения животных. Он предлагал более гуманное решение проблемы: постепенное превращение животных и растений в “высокоорганизованные” существа. Идея, знакомая нам по “Торжеству земледелия”. Циолковскому он даже прислал фрагмент поэмы с тем самым рассказом солдата о “светлом будущем” животных, который я уже цитировал. Но Циолковский был, пожалуй, единственным единомышленником Заболоцкого. Его переписка с уже тяжелобольным учёным вскоре прервалась (собственно, и перепиской-то её назвать трудно, нам известны только два письма Заболоцкого к учёному). Автору “Деревьев” пришлось прислушаться к тем мыслителям, чьи идеи не были ему столь близки.
4
Для преклонявшегося перед разумом Заболоцкого наука была высшим авторитетом, а потому, прочитав “Биосферу” Вернадского и “Жизнь растений” Тимирязева, он вынужден был отказаться от многих прежних взглядов. Пришлось признать, что природа не “тюрьма”, а “учительница” и “мать”, что мир устроен разумно, ибо “через кишечную тюрьму лежит центральный путь природы к благословенному уму” (“Деревья”), что разум нельзя противопоставлять природе, дух — материи. Но, как он писал Циолковскому, “одно дело знать, другое чувствовать”. В 1932 году он пишет первый вариант “Лодейникова”. Лодейникова, конечно, нельзя в полном смысле назвать alter ego Заболоцкого, но, несомненно, он передал ему многие свои мысли и чувства. Главное чувство Лодейникова — недоумение: “В душе моей сражение природы, зренья и науки”. Взгляд Лодейникова на природу не согласуется со взглядом науки. “Зрение” открывает ему страшную суть природы:
И то был бой травы, растений молчаливый бой.
Одни, вытягиваясь жирною трубой
и распустив листы, других собою мяли,
и напряжённые их сочлененья выделяли
густую слизь…
Но этот мир страданий и пыток внешне прекрасен:
Природа пела. Лес, подняв лицо,
пел вместе с лугом. Речка чистым телом
звенела вся как звонкое кольцо.
Здесь появляется “прекрасный Соколов” — антагонист Лодейникова во всех трёх вариантах стихотворения. Представлен Соколов ни много ни мало как убийца:
…Маленькие твари
С размаху шлёпались ему на грудь,
бешено подпрыгивая, падали,
но Соколов ступал по падали
и равномерно продолжал свой путь.
Литературовед А. Турков справедливо отмечает, что “природа странным образом напоминает красавца Соколова”7 . Если так, то Соколов (безусловно, часть природы) есть её образец, по которому можно судить о природе в целом: она внешне прекрасна, но невежественна, жестока, склонна к предательству. Лодейников ей чужд. Он одинок. Здесь мы встречаемся с вполне гностическим (хотя не только гностическим) мотивом одиночества, заброшенности в другой мир:
Лодейников очнулся. Светляки
вокруг него зажгли свои лампадки,
и он лежал в природе, словно в кадке —
совсем один, рассудку вопреки.
Рассудок, питаемый наукой, говорит поэту, что природа прекрасна и разумно устроена, но душа с трудом принимает его доводы.
Трансформация взглядов поэта на природу отражена в поэме “Деревья” (1933). В монологе Бомбеева, одного из героев поэмы, мы встречаем уже знакомый нам взгляд раннего Заболоцкого на природу:
Ещё растеньями бока коровы полны,
Но уж кровавые из тела хлещут волны,
И, хлопая глазами, голова
Летит по воздуху, и мёртвая корова
Лежит в пыли, для щей вполне готова…
……………………………………….
А печка жизни всё пылает,
Горит, трещит элементал,
И человек ладонью подсыпает
В мясное варево сияющий кристалл.
Бомбеев высказывает и мысль о спасении природы гнозисом:
По азбуке читая комариной,
Комар исполнится высокою доктриной.
Лесничий, возражающий Бомбееву, представляет науку. Лесничий доказывает ему разумность миропорядка, совершенство природы, нелепость надежд Бомбеева на её просвещение:
…в вашем веке золотом
Любой комар, откладывая сто яичек в сутки,
Пожрёт и самого тебя, и сад, и незабудки.
Правильно! Живые существа размножаются неудержимо, если б они не поедали друг друга, то давно бы лишились жизненного пространства. По подсчёту Вернадского, куры, если б им не препятствовала внешняя среда, заняли всю землю за 15—18 лет, крысы — за 8 лет, а домашние мухи — за год, холерный вибрион — за 1, 25 суток. На Заболоцкого эти данные, видимо, произвели впечатление (в его бумагах была даже найдена выписка из “Биосферы” Вернадского с подзаголовком “Примечания к поэме “Деревья”). Всё это прекрасно понимал ещё Баратынский, писавший о смерти:
Даёшь пределы ты растенью,
Чтоб не покрыл гигантский лес
Земли губительною тенью,
Злак не восстал бы до небес.
Однако монолог Лесничего звучит чересчур риторично, и чувствуется, что его слова автору не близки. Стоит Лесничему появиться на пиру у Бомбеева, как “деревья плачут в страхе и тревоге”. Правоту Лесничего (науки) автор признаёт нехотя. Поэма завершается своеобразным гимном природе, но какой природе?! Природа, изображенная в 3-й части поэмы, — это антиприрода, искусственная природа, созданная воображением автора. “Работа леса” не имеет ничего общего с жизнью природы реальной. Составляющие “лес” “деревья-императоры”, “деревья-солдаты”, “деревья-фонтаны”, “деревья-битвы”, “деревья-гробницы” и “деревянные девочки” существовали лишь в воображении автора. Это природа идеального, математического порядка:
…деревья-топоры начинают рассекать воздух
И складывать его в ровные параллелограммы…
<…>
… над землёй образуется новая плоскость
<…>
…окружают певца деревянные звери.
Деревья “кажутся то треугольником, то полукругом”. А “Дерево-Сфера” (очевидно, та сфера, в которую заключена вся эта антиприрода) есть “итог числовых операций”. Таким образом, поэт обманул самого себя, но так и не изменил здесь своё отношение к природе. В “Деревьях”, как раньше в “Безумном волке”, он создал антиприроду, мир, противостоящий природе реальной.
Однако в поэме “Птицы” Заболоцкий намного дальше отошел от своих прежних воззрений на природу. Среди других натурфилософских поэм эта стоит особняком. Пожалуй, правильней назвать её не философской, а “естественнонаучной”. “Птицы” — единственное произведение Заболоцкого, написанное гекзаметром. Это не случайно, ведь античный размер куда более подходит к естественнонаучному трактату, нежели “ямб картавый”. Подобно ранним поэмам, в “Птицах” важное место занимает мотив дарования гнозиса природе, которую здесь представляют птицы. Но поедание животными друг друга здесь не только не ужасает автора, но даже как будто приветствуется:
Голубя кушайте, вороны…
…………………………
Прочие птицы,
вот вам лукошко червей и гусениц полная миска.
Видите, как извиваются? Эти, с мохнатою спинкой —
очень вкусны. Эти как будто колбаски.
…………………………………………….
Славные это созданья! Клюйте их, рвите, крошите!
Нам же неси, ученик, жирное мясо коровы.
Славно оно уварилось, и суп получился чудесный.
Но эти строки выглядят несколько искусственными, как будто навязанными поэту извне. Познание природы в “Птицах” — препарирование голубя, т.е. опять-таки изучение мертвеца! Описание же самой операции и внутренностей голубя, несмотря на бодрую интонацию естествоиспытателя, героя сей поэмы, вызывает у читателя чувство гадливости, если он только не патологоанатом и не чучельник. Но даже в “Птицах” автор не оставляет надежды на изменение, преображение природы:
…все перемены направлены мудро
только к тому, чтобы старые, дряхлые формы
в новые отлиты были, лучшего вида сосуды.
Эту поэму Заболоцкий не включил в свод своих избранных сочинений, хотя художественно она вряд ли слабее “Торжества земледелия” Но слишком уж поддался здесь поэт науке, ведь призыв к поеданию живых существ и их останков противоречил его ранним произведениям от “Рыбной лавки” до “Безумного волка”.
Но ужас перед реальной, а не искусственно синтезированной природой не оставил поэта. В 1934 году появляется новый вариант “Лодейникова” (“Лодейников в саду”). Именно здесь появились те страшные строки, которые часто приводят, когда речь заходит об отношении Заболоцкого к природе:
Так вот она, гармония природы!
Так вот они, ночные голоса!
На безднах мук сияют наши воды,
На безднах горя высятся леса!
Жук ел траву, жука клевала птица,
Хорёк пил мозг из птичьей головы,
И страхом перекошенные лица
Ночных существ смотрели из травы.
Природы вековечная давильня
Соединяла смерть и бытие
в единый клуб. Но мысль была бессильна
соединить два таинства её.
Соединение смерти и бытия (позднее добра и зла в “Я не ищу гармонии в природе”) вновь отсылает нас к манихейству. Ведь для манихеев самой причиной мучений, страданий, зла было смешение света и тьмы (материи) в этом мире, а спасение и окончательная победа над злом виделась в разделении света и тьмы.
5
Хотя ужас перед природой и не оставил Заболоцкого, однако под влиянием трудов Вернадского, Тимирязева, Энгельса и Циолковского у него сложилась новая концепция природы, которой он и придерживался до конца своих дней. Впрочем, только ли с влиянием научных идей связана эта трансформация? Взгляд поэта на мир, на природу как на обитель зла, возмущение несправедливостью, преступностью мироустройства, очевидно, были присущи ему от природы. Лев Гумилёв, правда, считал, что негативное мироощущение качество не врождённое, а приобретённое. Люди с негативным мироощущением появляются в зонах этнического контакта, где ритмы этнических полей накладываются друг на друга, создают дисгармонию, а контакт людей с различными стереотипами поведения, различной ментальностью приводит к девальвации базовых ценностей, связанных с национальными культурами. Действительно, все значительные антисистемы, от буддизма до мунизма, сложились в зонах этнического контакта. Но на родине автора “Безумного волка” немец или китаец был таким же явлением, как ананас на ёлке. Какая уж тут зона этнического контакта. Единомышленников у Заболоцкого практически не было. Знакомство с Филоновым прервалось ещё в 20-е, с Циолковским он переписывался, да и то недолго. Словом, всё склоняло поэта к тому, чтоб подчиниться общепринятым взглядам.
В своём творческом завещании Заболоцкий распорядился печатать собственные произведения в определённом порядке: в 1-й раздел “столбцы и поэмы” вошли собственно столбцы (“городские столбцы”) и натурфилософские стихотворения (“смешанные столбцы”). Второй раздел (стихотворения 1932—1958) в нарушение хронологической последовательности должен был открываться (и открывается почти во всех сборниках, завещание Заболоцкого исполнено) стихотворением “Я не ищу гармонии в природе”. Это вещь, несомненно, программная, в ней в окончательном виде представлена та концепция природы, к которой в конце концов пришёл автор. Однако путь к ней был мучительным.
В 1930-е у Заболоцкого появляется так называемая пейзажная лирика. Читая “Засуху” или “Лесное озеро”, чувствуешь, как поэт пытается убедить самого себя в том, что природа прекрасна и достойна любви:
Сквозь битвы деревьев и волчьи сраженья,
Где пьют насекомые сок из растенья,
Где буйствуют стебли и стонут цветы,
Где хищная тварями правит природа…
<…>
Но странно, как тихо и важно кругом!
Откуда в трущобах такое величье?
Зачем не беснуется полчище птичье,
Но спит, убаюкано сладостным сном?
(“Лесное озеро”)
Алла Марченко писала, что Заболоцкий как будто искал “слабые проблески сознание на безглазом лике природы. Так врач-дефектолог добивается слабого подобия речи от глухонемого”. В “Засухе” он вновь изображает мрачную, почти апокалипсическую картину природы:
Как страшен ты, костлявый мир цветов,
Сожженных венчиков, расколотых листов,
Обезображенных, обугленных головок,
Где бродит стадо божиих коровок!
Тщетно он пытается понять “бессвязные и смутные” уроки природы. Там же, где Заболоцкий вроде бы искренне восхищается природой, он, по наблюдению той же Аллы Марченко, “смотрит на природу не непосредственно, а как бы сквозь призму той или иной культурной традиции: “Гомборгский лес” увиден в “театральный бинокль” грузинских переводов, “Лебедь в зоопарке” — через барочного державинского “Павлина”… и “Вечер на Оке”… отсылает нас не столько к реальным, сколько к литературным, быть может, именно есенинским ландшафтам”. Действительно, автор “Осенних примет” и “Соловья” как будто даже не любил бывать на природе. По свидетельству Н.К. Чуковского, когда Заболоцкий жил в Переделкино, на даче писателя В.П. Ильенкова (Заболоцкий только что вернулся из ссылки, которую получил после шести с лишним лет лагерей. Ни своей квартиры, ни московской прописки у него ещё не было), он был единственным из обитателей этого привилегированного дачного посёлка, кто “не любил прогулок и избегал их. В свободное время он предпочитал сидеть у себя в комнате”. Не знаю, так ли он вёл себя позднее в Тарусе. Б. Петрушевский удивлялся, почему Заболоцкий “из лета в лето сидел в Москве… как совместить писание великолепных стихов о природе и почти безвыездную жизнь на Беговой?…”. Когда же Петрушевский спросил об этом самого поэта, тот дал поразительный ответ: “Я природу и так себе хорошо представляю, и так люблю, что всё отлично помню — и цветы, и грибы, и птиц”. Неудивительно, что “Лесное озеро” было создано не на Дальнем Востоке, в окружении роскошной природы, а в камере “Крестов”. Ведь любовь к природе была у Заболоцкого, так сказать, заочной. Вдали от реальной природы ему было легче представить природу идеальную. При встрече с реальной природой им по-прежнему овладевали страх и отвращение. Однажды он сказал Николаю Чуковскому: “Вы рассматривали когда-нибудь бабочку внимательно, вблизи? Неужели вы не заметили, какая у неё страшная морда и какое отвратительное тело?”
Передо мной интересная фотография, её можно озаглавить: “Заболоцкий и природа”. Несложно представить себе Василия Шукшина в телогрейке и сапогах на родном Алтае, Виктора Астафьева в рабочей куртке на берегу Енисея, Константина Паустовского в старом дождевике, с удочками в окрестностях Тарусы. Но насколько странно, неорганично смотрится автор “Лесного озера” в переделкинском лесу, рядом с чудесной собакой (хотя автору “Где-то в поле возле Магадана” и пришлось больше шести лет носить телогрейку зэка). Он и впрямь кажется посланцем из другого мира. Его шляпа походит на цилиндр, трость кажется чудесным посохом или волшебной палочкой. Вот-вот этот маг взмахнёт ей, и вокруг начнутся те метаморфозы, что описал поэт в своих натурфилософских стихах: собака начнёт преподавать урок геометрии деревьям, со вниманием склонившим свои кроны, из леса выбегут лиса и заяц, рассядутся на пеньках и начнут спор о философии Платона. В таком мире маг Заболоцкий станет “своим”, он будет его певцом или даже его господином. Но собака не выписывает логарифмы, а лишь доверчиво подаёт лапу, деревья по-прежнему стоят равнодушной стеной. Они оставляют Заболоцкого чужаком, пришельцем, сами оставаясь чужими ему. А ведь чужаков нельзя любить.
В стихах позднего Заболоцкого можно встретить ту же ненависть (именно ненависть!) к природе, что знакома нам по его натурфилософской поэзии. Так господствующий над окрестной природой Казбек ему только чужд и враждебен:
А он в отдаленье от пашен,
В надмирной своей вышине,
Был только бессмысленно страшен
И людям опасен вдвойне.
(“Казбек”)
Да, Заболоцкий искренне придерживался “научных” взглядов на мир (хотя гипотезу о чувствительных атомах вполне научной считать нельзя), но время от времени “слоны подсознания” овладевали крепостью рассудка, и в его стихах появлялось прежнее противопоставление природы и разума:
Однажды в грозу, навалившись на двери,
Тут зверь появился, высок и космат…
<…>
И разом короткий ружейный удар
Потряс основанье соснового бора.
Вернувшись, лесник успокоился скоро.
Он, видимо, был уж достаточно стар,
Он знал, что покой — только признак покоя,
Он знал, что, когда полыхает гроза,
Всё тяжко-животное, злобно-живое
Встаёт и глядит человеку в глаза.
(“Лесная сторожка”)
Мир разума у Заболоцкого находится под постоянной угрозой со стороны злобной, невежественной, а иногда и завистливой (“Шакалы”) природы.
Природа и разум, дух и материя противостоят друг другу и в самом человеке. Возьмём, к примеру, стихотворение “Некрасивая девочка”. Противопоставление здесь несовершенной, даже уродливой плоти духу очевидно, но особенно интересны последние строки:
…Что есть красота
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?
Красота телесная есть красота сосуда, а сосуд — ремесленное изделие. Ремесленник же по-гречески демиург. Демиург во многих гностических системах — создатель этого мира, хвастливый, самоуверенный, жестокий властитель, не имеющий ничего общего с “истинным” надмирным Богом. Демиурга часто отождествляли с ветхозаветным Яхве. Он создал тело и душу, но не дух человека. Дух чужд материальной субстанции, как огонь в стихотворении Заболоцкого чужд сосуду, в который он попал. Тут образованный читатель легко уличит автора этих строк, т.к. огонь есть часть той же ненавистной гностикам материи. Более того, в некоторых гностических системах (например, у валентиниан) огонь ассоциировался со смертью и разрушением, это “огонь тьмы”, а сам Демиург именовался “Богом огня”. Но ведь огонь у Заболоцкого — это огонь не реальный, а метафорический. Причём такая метафора использовалась и гностиками: “Они принесли живой огонь и бросили его во всепожирающий огонь. Они принесли душу, непорочную Мана, и бросили её в никудышное тело”. Между прочим, двойственное значение уже не метафорического, а реального огня можно встретить и в русском фольклоре: так, по одной легенде огонь был ниспослан Богом, по другой — родился от адского пламени.
И всё же в творчестве позднего Заболоцкого вспышки ненависти к природе — редкость. В целом позднее его творчество подчинено его новой концепции природы. Наиболее полно она выражена в третьем варианте “Лодейникова” и, конечно, в “Я не ищу гармонии в природе”, где несчастная, безумная, несовершенная природа мечтает о новом бытии в “правильных”, разумных, совершенных формах, это своеобразный манифест позднего Заболоцкого:
Я не ищу гармонии в природе.
Разумной соразмерности начал
Ни в недрах скал, ни в ясном небосводе
Я до сих пор, увы, не различал.
Как своенравен мир её дремучий!
В ожесточённом пении ветров
Не слышит сердце правильных созвучий,
Душа не слышит стройных голосов.
<…>
И в этот час печальная природа
Лежит вокруг, вздыхая тяжело,
И не мила ей дикая свобода,
Где от добра неотделимо зло.
И снится ей блестящий вал турбины,
И мерный звук разумного труда,
И пенье труб, и зарево плотины,
И налитые током провода.
Тема преобразования природы человеком довольно часто встречается в творчестве позднего Заболоцкого. Его можно найти и в “Севере” (1936), и в “Творцах дорог” (1946). Причём далеко не всегда поэт столь снисходителен к природе. В “Севере” победа над ней изображена как победа над врагом, триумф победителя и унижение побеждённого:
И вся природа мёртвыми руками
Простёрлась к ним, но, брошенная вспять,
Горой отчаянья легла над берегами
И не посмела головы поднять.
Здесь важно не путать борьбу человека с природой у Заболоцкого с аналогичной вроде бы темой, распространённой в тогдашней советской литературе. В отличие от многих поэтов (да и от многих философов) Заболоцкий всегда помнил, что человек (как “тело”) является частью природы, и само противопоставление её человеку лишено смысла. Но ведь человек в “Севере”, в “Творцах дорог”, “В тайге” — это не “государь деревянного леса, император коровьего мяса” (“Искусство”), а воплощение разума. Он воюет с природой руководствуясь, прежде всего абстрактной целью спасения самой природы от ужаса существования. “Новый лес, где волк писал волшебный интеграл”, сменили “вал турбины и налитые током провода”.
В 1947 году Заболоцкий создаёт окончательный вариант “Лодейникова” (в него вошли оба прежних варианта и несколько строк из “Осени”). Если Лодейников, наблюдающий жестокость и вероломство природы, нам знаком, то любовная драма (в 3-й и 4-й частях стихотворения) нехарактерна для творчества Заболоцкого. Почему же тема любви включена в философское стихотворение? Не является ли эта love story метафорой отношения природы и наивного человека, поверхностный взгляд которого не способен увидеть “гнусной сущности” природы? Если Соколов олицетворяет саму природу, Лодейников — дух, разум, то Лариса (девушка, которую обольстил и бросил Соколов) — тех, кто являются рабами природы. Финал “Лодейникова”, в общем, характерен для позднего Заболоцкого: природе дикой противопоставляется природа, преображённая разумом. Биосфере он противопоставляет техносферу, живой природе природу мёртвую:
Вступал в природу новый дирижёр,
Органам скал давал он вид забоев,
Оркестрам рек — железный бег турбин
И, хищника отвадив от разбоев,
Торжествовал как мудрый исполин.
<…>
Как будто вдруг почувствовали воды,
Что не смертелен тяжкий их недуг.
Как будто вдруг почувствовали травы,
………………………………………….
Что не они одни во всей вселенной правы,
Но только он — великий чародей.
Чародей здесь, конечно, не труд, как иногда думают, а разум.
Природу автор “Весны в Мисхоре” именует “вековым прахом” и “порогом всеобщего тленья”, это и понятно, ведь природа — царство смерти. И трудно сказать, принял бы Заболоцкий (хоть и с оговорками) тезис о благости природы, которая нуждается всего лишь в улучшении, если б не идея Циолковского о бессмертии. Н. Чуковский считал, что Заболоцкий всю жизнь просто очень боялся смерти, чем он объяснял знакомые нам “странности” в его философской поэзии. Мне кажется, автор “Водителей фрегатов” упростил, примитивизировал взгляды автора “Завещания”. Заболоцкого ужасало господство смерти в этом мире, её неизбежность и, главное, необходимость. Как можно любить природу, когда в ней царит смерть? Но и сам Заболоцкий мечтал о бессмертии. Это обстоятельство вовсе не противоречит моему утверждению о близости мироощущения Заболоцкого к гностическому. Гностики очень боялись остаться в “государстве смертей и рождений” (они признавали переселение душ) и мечтали об избавлении от страданий этого мира. Но “пневма” не умирает. Она воссоединяется с Божеством (Плеромой, Стихией Света) и обретает вечное блаженство. Заболоцкий о Плероме не помышлял, но обещание вечной жизни, причём не вечного страдания, а вечного блаженства, он нашёл у Циолковского, который подсчитал, что вероятность того, что атомы, из которых состоит тело человека, попадут в животное или в другого человека, ничтожно мала. А попадёт атом, скорее всего, в неорганику, где атомы нечувствительны и потому не страдают. Когда же он вновь попадёт в живое существо, на Земле уже не останется ни животных, ни паразитов, а значит, он окажется в худшем случае в растении (они по Циолковскому мало чувствительны), в лучшем — в человеке, который к тому времени превратиться в некое “высшее существо”, вся жизнь которого — блаженство. К тому же Заболоцкий, очевидно, надеялся, что животные со временем также разовьются в “высшие существа”, в которых будут блаженствовать атомы. Не случайно он посвятил теме бессмертия несколько своих лучших стихотворений: “Вчера о смерти размышляя”, “Метаморфозы”, “Завещание” (одно из наиболее совершенных в русской поэзии середины XX века). Если гностики надеялись, что их пневма попадёт в Плерому, то Заболоцкий рассчитывал, что составляющие его организм чувствительные и бессмертные атомы попадут в прекрасный мир, созданный его воображением и воображением великого теоретика космических полётов.
Примечание.
Стихотворения и поэмы Н. Заболоцкого в окончательном авторском варианте цитируются по первому тому собрания сочинений . Первоначальные варианты даются по книге “Огонь, мерцающий в сосуде”, кроме четырех строк из первоначального варианта “Искусства”.
Сергей Беляков
По материалам: magazines.russ.ru
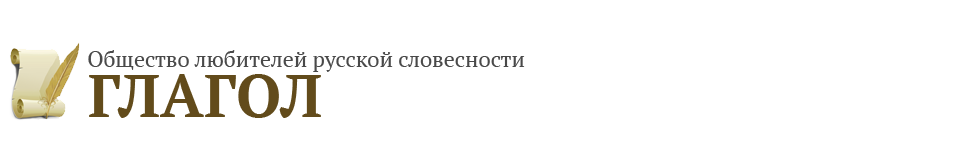


 (3 votes, average: 3,67 out of 5)
(3 votes, average: 3,67 out of 5)