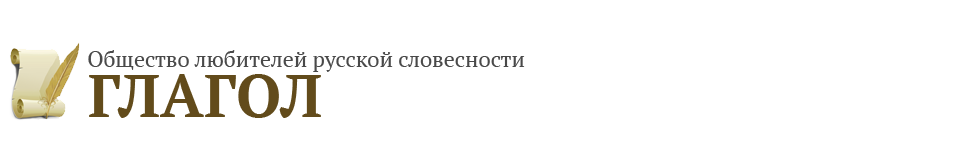Слава Макарова

В 1996 году Макаров получил полиэтиленовый пакет с конвертами и, не заглядывая в них, расписался в книге учёта. За письмо о Таблицыне, предназначенное для проверки, расписался отдельно.
«Это феноменальная ситуация, – думал и думал Макаров, шагая из редакции на же-лезнодорожный вокзал. – Я её не понимаю. Но я всё равно поеду в командировку. Поли-этиленовый пакет бьёт мне по мозгам. Я ничего не могу объяснить в нём. Но я поеду, по-тому что ситуация феноменальная».
Макаров по опыту знал, какие письма в конвертах. Ещё в 1990 году была опубликована его статья «Собственность вместо денег». С тех пор идут и идут в «Советскую деревню» письма. Макаров насчитал их более тысячи. Тридцать с лишним писем ему пришлось проверить. Переписка вот какая.
Сначала каждый автор письма в текст статьи Макарова «Собственность вместо денег» вставлял свою фамилию и организацию или предприятие, где работал. При этом он, на-оборот, убирал из произведения всех героев Макарова и птицефабрику, о которой там шла речь. Получался тот же самый текст, но о нём, авторе письма, и о его месте работы. Иногда автор письма добавлял какую-нибудь случившуюся у него в селе анекдотическую ситуацию. Иногда – вставлял фамилии нескольких своих знакомых. Снабжал всё это ува-жительным обращением к главному редактору «Советской деревни» и просьбой о помо-щи и отправлял письмо в журнал, ни словом не упоминая ни Макарова, ни его тексты.
Вот и присланное в 1996 году письмо о Таблицыне – такое же. Как и на птицефабрике из макаровской статьи, в колхозе сначала всё имущество и землю разделили на бумаге на паи. Разделили, но взять свой пай можно было только при банкротстве предприятия или на собственные похороны. «Кого или что он, этот пай, стимулирует?» – дословно повто-ряли авторы письма макаровский вопрос из статьи «Собственность вместо денег». А по-том добавляли свой вопрос: «Что же это за приватизация, при которой собственник мо-жет только одно – воровать?» Таблицын сразу поспешил надеть на себя мундир бизнес-мена: открыл собственные буфетик и заводик в ближайшем городе.
Но как только он перестал давать зарплату, так сразу его и выгнали с должности руково-дителя хозяйства. А потом, глядя на квартиры и особняки Таблицына и его родни, сель-чане решили его ещё и в тюрьму посадить. «Уважаемый главный редактор! Помогите нам, пожалуйста, отдать под суд бывшего председателя, который тут творил коммерче-ский разбой» – вот такими фразами начиналось письмо. «Помогите!» – вот таким криком оно заканчивалось, письмо.
«Что же тут проверять? – думал Макаров, вышагивая по железнодорожной платформе в ожидании поезда. – Всё, как у всех. За письмом несомненно стоит группа колхозных специалистов. Своих фамилий они, конечно, не указали. Помню, на птицефабрике из статьи «Собственность вместо денег» специалисты, а заодно и парторг с комсоргом сразу же занялись коммерцией: кто платную стоянку открыл, кто свой кооператив. И что же? В 90-е годы там пошли сплошные распри, и от птицефабрики остались одни руины. История обычная, как и в колхозе Таблицына. Всё, как у всех. Сплошные распри идут между всеми специалистами и всеми руководителями, если кто-либо причастен к коммерции. В конце концов, контора поднимает против руководителя восстание сельчан, и те гонят его в шею, если, конечно, он перед этим не успевает избавиться от всего состава бухгалтерии и специалистов – от всей конторы. Таблицын – не успел. Таких восстаний насчитывается в России уже пять тысяч! А что после восстаний? Всё, как у всех.
Руины. Деревни окружены уже не пашней, а дремучими лесами. На миллионах гектаров пашен и лугов поднялись в России берёзовые рощи, осинники, сосновая молодь. Там нет ни одного начальника, в этих деревнях. Как тянет меня к себе эта тишина, как хочется по-ехать туда, где распрей больше нет…А надо проверять письмо, оканчивающееся криком: «Помогите!» Но ведь я уже помог, написав тридцать очерков и статью «Собственность вместо денег» об этих распрях. «Остановитесь!» – говорил я там, и говорил. Но мои про-изведения словно подливали масла в огонь. Распри идут и идут».
Первое время Макаров беседовал на эту тему в редакции.
– Зачем мне ехать проверять факты? – обратился он к письмоводителю Ивану Петро-вичу, когда тот в 1991 году дал ему первый пакет с конвертами. – Я уже всё написал в статье о птицефабрике. Я хочу обычной славы. А в письмах, которые я посмотрел, меня копируют без стыда и совести, даже не упоминая мою фамилию!
– А ты посмотри на себя! – воскликнул письмоводитель. – Ты – такой же феномен, как и авторы писем. Помнишь песенку «В лесу родилась ёлочка»? Ты её с младенчества по-вторял на каждом новогоднем утреннике вместе со всей страной, а! С младенчества пом-нишь её именно поэтому. А помнишь фамилию её автора?
–Нет, – чистосердечно признался Макаров.
– Я тоже не помню, – сказал Иван Петрович. – Я не знаю даже, жив ли автор. И никто не помнит его фамилию. У нас страна такая феноменальная: поют, а фамилию не упоми-нают авторскую. А вот кто у нас лучший детский писатель, ты знаешь. И вся страна знает: автор агитки под названием «Дядя Стёпа» – наш лучший писатель. А ты помнишь текст «Дяди Стёпы»?
– Нет, – опять сказал Макаров.
– И я не помню, – чистосердечно признался Иван Петрович. – Когда его в школе изуча-ли, он сразу выпадал из памяти, как и все бездарные тексты. Одно всем было ясно: ми-лиционер дядя Степа настолько высокий, что ему любое преступление видно. Агитка она и есть агитка. Но автора агитки помнят только потому, что его фамилия с младенческих лет вдалбливается в голову каждому человеку – и в детском саду, и по радио, и по теле-видению её называют и называют. Начальство велело – вдалбливают! У нас страна та-кая. ЦК КПСС назначает, кого прославлять в этой стране, только ЦК КПСС. А фамилию автора самой популярной в СССР песни «В лесу родилась ёлочка» дети и взрослые не знают. ЦК КПСС ему славу не назначал. У нас слава такая. Вот и у тебя слава такая, как у этого автора.
– Постой, Иван Петрович, – отрезал Макаров. – Но ведь автор песни «В лесу родилась ёлочка» не написал больше ничего знаменитого, его никто к этому не приневоливал. За-чем же мне-то проверять письма? Я уже сейчас хочу обычной славы. Ведь ты сам сказал: я уже написал свою песню про ёлочку! Зачем же мне ехать с проверкой?
– Не хочешь – устраивайся дворником! – воскликнул Иван Петрович. – У тебя пока что есть такая возможность. Или, на худой конец, инвалидность себе выхлопочи. В общем, уйди в полную неизвестность, совсем, как автор песни «В лесу родилась ёлочка».
– Но ведь это изоляция полная! – вырвалось у Макарова.
– Нет у тебя никакой изоляции, – снисходительно вымолвил Иван Петрович. – Прав-да, нет её, пока тебя сам Уклеев посылает в командировку с напутствием: «Ведь вам же нужно знать, чем дышит простой народ». Посылает, а?
– Да это мне не Уклеев, а Второй говорит, – поправил Ивана Петровича Макаров.
– Да, – согласился тот. – Напутствие это тебе говорит не Уклеев, а его первый замес-титель. Но нас не обманешь! Второй говорит только то, что Уклеев говорит. А чем дышит у нас народ? Он ничего не создаёт сам. Что автор какой-нибудь сотворил, то народ и по-вторяет, понял, а? Вот чем дышит у нас народ:
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
– Так зачем же мне проверять письма, если и без того всё ясно? – упорствовал Макаров.
– Мы – издание народное, понял, а? – внушал Иван Петрович. – Вот твою статью пе-редрали авторы писем, а мы эти письма будем публиковать и публиковать. Пакет – тебе, а копии – нам. Машинистка эти письма давно перепечатала, понял, а? Мы – издание на-родное.
– Постой-постой, – опять прервал Макаров. – Ты говоришь так, будто Уклеев велел мне эти полиэтиленовые пакеты вручать, сам Уклеев. Но ведь что получается: украденное у меня мне Уклеев вручает так, словно одолжение делает. Да от этого с ума можно сойти!
– Это я тебе сказал про Уклеева? – вдруг побелел Иван Петрович. – Ты врёшь, негодяй! Где ты взял эту информацию? Если ты где-нибудь повторишь эту отсебятину, то Уклеев тебя выгонит, и ты даже дворником не устроишься! Пожалеешь!
– Я никому не скажу ничего, – онемевший от бешенства письмоводителя Макаров только эти слова и смог выговорить.
Но Иван Петрович сделал больше. Все пакеты с конвертами с тех пор, с 1991 года, стала вручать Макарову учётчица писем. Дал, таким образом, понять: некоторые темы даже затрагивать нельзя!
Макаров не знал, что объяснить феноменальную ситуацию может только история. Вот какая это история. Её начал Лев Толстой, когда в конце 19-го века стал считать себя единственным на планете нестандартным человеком. Он взял да и переписал четыре Еванге-лия канонических. Он взял тексты этих Евангелий, выбросил оттуда Христа с Его непостижимыми для единственного на планете нестандартного человека действиями и вста-вил в тексты другого героя. А потом составил из всего этого свой собственный опус – «Соединение и перевод четырёх евангелий».
«Если Христа нет, то всё можно!» – вот какой соблазн появился от этого для российских гениев. И во время начавшейся в 1917 году смуты сотни подлинных литературных талан-тов не удержались от соблазна и стали действовать так же, как Лев Толстой. Сотни – Блок, Есенин. Маяковский, Андрей Белый… Сотни!
Блок поставил своего Христа впереди отряда матросов-забулдыг. А что делал Есенин? Выбрасывал, например, из библейского текста пророка Иеремию, вставлял на его место себя и писал так:
Не устрашуся гибели,
Ни копий, ни стрел дождей,
Так говорил по Библии
Пророк Есенин Сергей.
Последним из великих талантов занялся окаянством Михаил Афанасьевич Булгаков. Он выбросил из текста Евангелия Христа, вставил на его место своего героя Иешуа Га-Ноцри, выдумал создающих христианство Понтия Пилата и его помощника из каратель-ных органов и решил, что получится роман «Мастер и Маргарита». Булгакову повезло – его роман остался незаконченным…
В общем, появилась у талантов разнузданность: «Мы этих библий сотни напишем са-ми!»
Бездарь невольно копирует таланты. И начиная со смуты 1917 года, в России возник-ла разнузданность бездари: «Мы таких талантливых текстов сотни напишем сами!» Речь у бездари шла тут о каждом таланте, независимо от его величины. О каждом: о Блоке, Есенине, Андрее Белом, Михаиле Булгакове… У каждого крали, что можно!
Но в России произошло нечто более страшное, чем литературная катастрофа. Начиная с 1917 года, в России возник феномен назначаемой славы. Возьмем соратников Ленина – Воровского, Урицкого, Семашко, Троцкого, Сталина, Зиновьева… Всем им почти сразу после своего прихода к власти Ленин дал или по целому городу, переименованному в их честь, или, в крайнем случае, по улице-другой чуть ли не в каждом городе. В общем, они стали считаться гениями и талантами. А за что? Они повторяли пустоту, которую он гово-рил. Единственная заслуга! Так возникла в России назначаемая правителем-«богом» слава. Она устанавливалась для «других талантов» и для «других гениев». Слова «для других» означали, что это гении и таланты не от Бога, а от начальства.
А Россия – страна такая: люди говорят то, что начальство говорит. И, в конце концов, в 90-е годы каждый желающий осмеливался назначать талантом себя. Вот и вся феноме-нальная ситуация в России.
Вот и вся феноменальная ситуация с Макаровым. Каждый желающий брал текст Мака-рова, удалял оттуда автора и героев…
Но почему люди крали только талантливые тексты? У таланта есть главное свойство – он помнится даже бездари. Увы, в «Советской деревне», кроме макаровских текстов, помнить в 90-е годы было нечего. И духовное самоубийство совершалось лишь на тек-стах Макарова: «Мы таких текстов сотни напишем сами!» Эти письма публиковались из номера в номер как «письма людей из народа».
Такая слава доставалась талантам-самоназначенцам за украденные тексты. А о чём они хотели поведать устно, Макаров мог узнать только в командировке.
Он не хотел в неё ехать. Всё время перед посадкой в поезд у него перед глазами стояла слава обычная, слава подлинных талантов. Ему было почти сорок лет. Слава являлась для него осязаемой от начала до конца. Всем сердцем, бездумно и доверчиво Макаров помнил и любил цитаты обо всех этапах славы.
«Словом, вокруг книги создалась хорошая, грозовая атмосфера скандала, повысивше-го на неё спрос, а вместе с тем, несмотря на нападки, имя Годунова-Чердынцева сразу, как говорится, выдвинулось и, поднявшись над бурей критических толков, утвердилось у всех на виду, ярко и прочно», – писал Набоков в «Даре».
А потом Макаров вспоминал слова Бунина о зените славы Куприна: «Это была пора, когда издатели газет, журналов и сборников на лихачах гонялись за ним по этим рестора-нам, в которых он проводил дни и ночи со своими случайными и постоянными собутыль-никами, и униженно умоляли его взять тысячу, две тысячи рублей авансом за одно только обещание не забыть их при случае своей милостью».
И наконец, сердце Макарова грустило при закате славы Розанова, при его предсмерт-ной бедности: «Это ужасное замерзание ночью. Страшные мысли приходят. Есть что-то враждебное в стихии холода организму человеческому, как организму «теплокровному»…
«Где я? На какой полочке обычной славы?» – спрашивал и спрашивал себя Макаров в поезде. Только себя. «Назначить Куприным» его никто не мог!