Радость жить. Пасхальный рассказ

На Невском проспекте, около Гостиного двора, весь день, с того момента, как только открылись магазины, была невообразимая толкотня. Люди шли пешком, подъезжали на извозчиках и в собственных экипажах. Магазины были битком набиты, приказчики сбились с ног, по лицам их катился пот. Все спешили закупить все необходимое к празднику.
Люди выбегали из магазинов, таща в руках свертки, толкали на пути входивших туда, вбегали в другие двери, хватали чуть не на лету товары у уличных продавцов. Из подмышек и из карманов у них торчали пакеты и узелки, они роняли их, бросались за ними, поднимали, часто теряли, и ослепленная предпраздничной заботой толпа топтала их, наступала на них ногами и превращая их в негодные вещи.
Лица у всех казались безумными; было такое впечатление, будто всем уже стало известно, что эти магазины будут открыты еще только два дня, и потом двери их захлопнутся навсегда и никогда-никогда уже больше не откроются. И все спешили, бежали, толкали друг друга, чтобы накупить обновок на всю жизнь.
На широкой панели, устроенной для пешеходов против Гостиного двора, появляясь вдруг точно из-под земли, сновали ребятишки-оборванцы. Они приставали к торопящимся пешеходам, быстро семеня босыми грязными ногами, шли рядом с ними и жалобными пискливыми голосками уверяли их, что со вчерашнего утра ничего не ели, что у них дома лежат больные матери и умирающие сестры, а отцы разбиты параличом.
Большей частью их прогоняли. Благонамеренным гражданам, которым предстояло еще закупить полгорода, было не до того, чтобы вникать в эту детскую болтовню. У иного, быть может, сердце и готово было откликнуться на печальное причитание оборванца, и рука уже тянулась к карману, но вдруг вспоминалось, что деньги где-то в кошельке, в кармане брюк, что надо расстегивать пальто, доставать — целая история. И разжалобившийся пешеход прибавлял шагу или стремительно сворачивал на другую сторону проспекта.
Но иногда сердобольность побеждала, и оборванцу давали медную монету. Тогда на счастливца набрасывался десяток других таких же оборванцев, стараясь отнять у него добычу, подымалась драка, которая прекращалась только при грозном появлении городового.
Перед этим верховным умиротворителем стая голодных, оборванных детишек мгновенно рассыпалась в стороны, пряталась по закоулкам, среди экипажей, ловко забиралась под брюхо лошадей, и городовому оставалось думать, что они провалились сквозь землю.
Был яркий солнечный день. В Летнем саду и в загородных палисадниках уже распустилась зелень деревьев, и всюду на полянках появилась зеленая травка.
Оттуда торговцы принесли сюда в город пучки фиалок и ветки сирени, носили их по тротуарам и тыкали ими под самый нос прохожим, дразня их нежным весенним ароматом.
Но здесь злосчастные деревья-пленники, корни которых принуждены были пролагать себе подземную дорогу под камнями тротуаров, еще стояли с голыми ветвями, и только кое-где робко выползли наружу худосочные безжизненные почки.
Яркое солнце опьяняло людей, которые густой толпой похожей на живую стену, двигались по ту сторону проспекта. Это были те, кому не нужно было бегать за покупками, так как за них делали это другие. Около полудня, в тот час, когда солнечные лучи с каким-то невыразимо радостным трепетом слетали с неба и разливались по земле, к Гостиному двору со стороны Невского подъехала и остановилась около одного из магазинов коляска, запряженная парой вороных коней
Из коляски вышел высокий господин с совершенно бритым лицом, в черной шляпе, в темно-сером весеннем пальто. Лицо у него было худощавое и смуглое. Спина казалась сутуловатой. Сойдя на мостовую, он обернулся к экипажу протянул смуглую руку с длинными пальцами по направлению к странному маленькому существу, сидевшему в глубине экипажа.
Это была девочка лет восьми. У нее было чудное личико с ясными голубовато-серыми глазками. Нежно-каштановые кудрявые волосы выбивались из-под белой шляпы и падали на плечи, на шею и на грудь. На ней было белоснежное пальтецо, руки ее были спрятаны в маленькую белую муфту, а ноги прикрыты белым плюшевым пледом, так что их совсем не было видно.
Против нее на скамейке сидела дама, одетая чрезвычайно просто. По-видимому, она была высокого роста, худая, с длинным бледным лицом и со спокойными добрыми глазами.
Длинные пальцы господина с бритым лицом коснулись белого пледа, осторожно слегка приподняли его и получше прикрыли ноги девочки.
— Тебе не холодно, моя крошка? Ты посидишь с фрейлейн Фридой? Я только на минуту зайду в магазин. Только на минуту. Я куплю тебе маленькую таксу, которую ты так хотела…
Девочка кивнула головой, и ее каштановые кудри задрожали в волне легкого ветерка, повеявшего из-за колонны гостинодворского здания.
Он ушел, а девочка с любопытством поворачивала голову то вправо, то влево, внимательно вглядываясь в прохожих и как бы изумляясь тому, что здесь разом собралось так много людей и что они все чем-то озабочены, куда-то бегут, чего-то ищут.
— Зачем они так, фрейлейн Фрида? — спросила она тоненьким, чуть-чуть капризным голоском.
— Что? Как? Wie meine Liebe? — промолвила фрейлейн Фрида, обыкновенно говорившая с ней на двух языках.
— Так много и так все бегут, — пояснила девочка.
— Это перед праздниками. Все торопятся купить…
— Зачем?
— Чтобы все у них было на праздниках.
— А они все богатые?
— Не все, крошка. Есть богатые, а есть и бедные. Каждый покупает по своим средствам.
Вдруг девочка с некоторым усилием нагнулась вперед, повернула голову вправо и чуть-чуть выдвинулась из экипажа.
— А это что? Кто это, кто? — заговорила она нервным, взволнованным голосом, и веки ее глаз как-то неудержимо замигали.
— Не надо волноваться, крошка. Ведь доктор же запретил! — спокойным, разумным голосом сказала фрейлейн Фрида и, как бы боясь, чтобы девочка не перегнулась слишком много и не вывалилась из экипажа, положила свою руку на плед и поддерживала ее.
— Но кто же это? Он — мальчик?
— Да, это мальчик, — сказала фрейлейн Фрида.
— А что же тут делает? Он тоже покупает?
— Нет, дружок, он просит. Это бедный мальчик, который просит милостыню…
— Он просит милостыню… Он просит милостыню… — жалобно пропищала девочка. И вдруг глаза ее наполнились слезами. Еще мгновение — и слезы полились по ее нежным малокровным щекам.
— Боже мой! — восклицала фрейлейн Фрида, торопливо вынув из маленького ручного сака белый платок и вытирая девочке глаза. — Я говорила, что нельзя брать тебя в город. Такая толпа, столько впечатлений… Ну, полно. Ну что тут такого? Их много, этих мальчиков… Успокойся, крошка! Вот, Павел Сергеевич, — обратилась она к господину с бритым лицом, который вернулся из магазина и подошел к экипажу, держа в руках какой-то бумажный сверток, — я говорила, я говорила…
А мальчик, о котором шла речь, подошел к самому экипажу. Это было самое странное существо из всех, каких только видела в своей, еще недолгой жизни девочка.
На вид ему было лет восемь или девять, но смуглое, загоревшее от ветра и солнечных лучей лицо его было удивительно серьезно. На теле его висели какие-то лохмотья, смутно сохранившие воспоминание о том, что они когда-то составляли принадлежность человеческой одежды, что-то вроде рубашки или женской кофты с заплатами из разноцветных лоскутьев. Из лохмотьев выглядывали тоненькие смуглые руки, а внизу, начиная от колен, — голые ноги с испачканными в грязи ступнями и пальцами.
Голова его вместо шапки была прикрыта густым лесом темных волос. Тонкая шея как-то беспомощно вырастала из тряпок его необыкновенной одежды, и все это вместе делало его гораздо более фантастическим, чем жалким.
Он стоял около экипажа с протянутой рукой и, переминаясь с ноги на ногу, тонким голосом произносил:
— Дайте копеецку, тли дня не ел… Мама больная… Сестра помирает… Дайте копеецку…
Павел Сергеевич сильно нахмурил брови, пошарил в карманах и, обойдя экипаж, хотел было ткнуть мальчугану первую попавшуюся в руку монету, чтобы поскорее избавиться от сцены которая расстраивала девочку, но девочка вдруг остановила его:
— Нет, нет… Он голый… Надо одеть его… Я так не могу, не могу… он голый…
Маленькие ручонки вынырнули из муфты и закрыли ее лицо. Она плакала и вся конвульсивно вздрагивала.
Павел Сергеевич вернулся к ней.
— Милая Тася… Моя крошка… Успокойся… Сделаю все, как хочешь! — ласково рокочущим густым голосом говорил Павел Сергеевич, гладя ее волосы и руки. — Я так сделаю, я сделаю, только успокойся. Ты успокоишься? Да? Ведь ты же знаешь, тебе вредно. Вот ты сейчас поедешь с фрейлейн Фридой, а я все устрою.
— Ты его оденешь?
— Да, да, я куплю ему одежду.
— Ты привезешь его к нам?
Павел Сергеевич с секунду колебался. Но он знал, что нельзя медлить с ответом и, еще не обдумав все последствия своих слов, сказал:
— Да, и это… Я постараюсь…
— Ну, смотри же, смотри…
Она отняла руки от лица, которое все было мокро от слез. Фрейлейн Фрида пересела рядом с ней, на прежнее место Павла Сергеевича и вытирала платком ее лицо. Кучеру дан был знак, и коляска тронулась.
Павел Сергеевич оглянулся. Мальчик стоял неподалеку от него.
— Поди сюда, — сказал он ему.
Мальчик боязливо пододвинулся к нему и смотрел на него большими удивленными глазами.
— Пойдем-ка, я куплю тебе одежду… Хорошо? Потом ты поешь что-нибудь. А? Ты хочешь есть? Ну, конечно… Садись же… Извозчик, в Мариинский рынок.
И он взял мальчика за руку, почти насильно усадил его в извозчичий экипаж и сам сел рядом.
Когда коляска, запряженная парой вороных лошадей, остановилась у подъезда большого дома на Кирочной улице, фрейлейн Фрида быстро соскочила на землю и, осторожно взяв девочку на руки, кутая в то же время ее ноги в плед, внесла ее в вестибюль. Затем медленно поднялась с ней в бельэтаж.
Только в квартире девочка стала на ноги, но не могла идти без поддержки. Ее изящное стройное тельце, увенчанное чудной кудрявой головкой, держалось на слабых, больных ногах. Она родилась такой, и это рождение стоило жизни ее матери и было вечной скорбью для Павла Сергеевича.
Умненький, нервный, от малейшего пустяка расстраивавшийся ребенок, лицом похожий на мать, со дня своего рождения сделался его кумиром. И не было такого каприза, в исполнении которого он отказал бы ей.
В тот день утром она неотступно просила, чтобы ее прокатили по городу. В окна глядело солнце. Так красиво, должно быть, там на улице.
Фрейлейн Фрида, почтенная немецкая девица с бесконечно любвеобильным сердцем, посвятившая всю свою жизнь на уход за этим милым больным существом, протестовала, доказывая, что в эти предпраздничные дни на улицах столицы слишком много впечатлений, но девочка так жалобно просила, а Павел Сергеевич не мог отказать ей. Результатом была только что происшедшая сцена.
Ее звали Наташей, но называли Тасей и Крошкой. Свежий воздух и слезы утомили ее хрупкие нервы, и она сейчас же по приезде домой заснула.
Когда приехал Павел Сергеевич, Тася спала. Это было очень кстати. Мальчику он купил одежду, кое-как подобрав ее, хотя это было очень трудно. Но он привез его домой в лохмотьях, только прикрыл их сверху чем-то вроде плаща.
Во время разъездов они ближе познакомились. Мальчик убедился, что его не свезут в полицию и вообще не сделают ему никакого вреда.
Сперва на расспросы Павла Сергеевича он сюсюкающим языком нищего повторял все одну и ту же бессмыслицу о больной матери, об умирающей сестре и о том, что он три дня не ел. Когда же ему купили одежду, он вдруг почувствовал в лице этого бритого высокого господина с суровым лицом доброжелателя и заговорил совсем иначе.
Прежде всего оказалось, что он вовсе не сюсюкает, а прекрасно произносит все буквы. А затем выяснилось, что история о больной матери и умирающей сестре была заученным припевом для прошения милостыни. В действительности же у него есть только мать, и не больная, а пьяная, вечно пьяная. Она по профессии прачка, но едва ли когда-нибудь стирает. Всегда сидит в кабаке, а, придя домой, бушует, ругается и бьет его и посылает просить милостыню.
Все это он рассказал Павлу Сергеевичу чистосердечно и прибавил, что зовут его Мишей.
Пока Тася спала, а в столовой накрывали стол для завтрака, Миша поступил в ведение фрейлейн Фриды, которая уж знала, что с ним надо делать.
Была приготовлена ванна. Мальчик был тщательно вымыт, потом была расчесана его голова, на тело его надели чистое свежее белье, поверх которого были натянуты штанишки и куртка, и Миша совершенно преобразился.
Когда проснулась Тася и открыла глаза, первое, что она увидела, это был мальчик в коротенькой куртке, в длинных чулках и башмаках, с причесанной головой. Она взглянула на него и промолвила:
— Так это он? Здравствуй!
И сейчас же между ними завязалось знакомство. Тася расспрашивала его, а у Миши, к глубокому изумлению Павла Сергеевича и фрейлейн Фриды, оказался какой-то инстинктивный такт. Он как будто боялся чем-нибудь резким и грубым подействовать на слишком чувствительные нервы девочки и рассказал о своей жизни в таких сдержанных выражениях, как будто кто-нибудь научил его. Ни о пьянстве матери, ни о кабаке, ни о побоях не было сказано ни слова. Мать бедная, больная, живут за городом, где-то за Нарвской заставой, в маленькой комнатке. И все это так осторожно, мягко, словно он боялся прикоснуться к ее больным нервам.
В карих глазах Миши было что-то притягивающее. Какая-то большая печаль тихо горела в них, и, должно быть, эти глаза проникли в душу девочки. Она взяла Мишу за руку и ни за что не хотела отпустить его. У нее не было подруг, потому что она не могла играть с ними, она росла в одиночестве, и этот мальчик, который так покорно и ласково сидел около нее, сразу сделался ее другом.
— Он будет жить у нас… Он будет играть со мной… Какие у него славные глаза… Какие темные кудри!.. — ежеминутно повторяла она, и как ни хмурились — каждый порознь — Павел Сергеевич и фрейлейн Фрида, но не могли не принять в расчет эти слова.
Желание Таси в этом доме было законом.
Хотел ли Миша остаться у них? Скучал ли он по вольной жизни уличного мальчишки? Любил ли он свою пьяную мать? Ничего этого он тогда не знал.
Ему было хорошо около милой, ласковой девочки. Сердце его согревалось в лучах ее радости. Он чувствовал, что его присутствие делает ее счастливой, потому что он заменил ей
подруг, которые есть у других и могли быть у нее. Его вымыли, накормили, одели, причесали. Что же еще нужно было человеческому существу в его положении?
У Павла Сергеевича ничего не было решено. Он понимал, что Миша с его происхождением, с обстановкой его прежней жизни, с воспитанием и привычками уличного мальчишки — плохой, совершенно неподходящий товарищ для Таси, но в то же время чувствовал, что этого ему никак не обойти.
Для Таси он был как раз то, чего ей больше всего недоставало. И потому надо было делать какие-то попытки.
В тот же день фрейлейн Фрида, взяв с собой Мишу, уже преображенного в чистого и приличного мальчика, отправилась вместе с ним и по его указаниям за Нарвскую заставу.
Часов в пять дня, когда весеннее солнце еще светило ярко, они приехали к покосившейся набок лачуге, древней и как будто уже вросшей в землю, спустились по ступенькам вниз и там, в полутемной каморке, нашли оборванную женщину с распухшим от пьянства красным лицом, с синяком под глазом, в лохмотьях, с растрепанными волосами.
Шатаясь, поднялась она с полу, где на соломе была ее постель, и посмотрела на Мишу мутными глазами. В первую минуту она ничего не поняла: она не узнала преображенного Мишу.
Когда же пригляделась и узнала его и сообразила, в чем дело, вдруг протрезвилась, и лицо ее сразу переменило выражение.
Фрейлейн Фрида что-то толковала ей насчет возможности устроить ее мальчика получше, говорила о каких-то условиях, но женщина только плакала, как казалось, от умиления или радости и ни за что не могла ответить.
— Боже мой… Господи! Одели мальчика… Вот он на человеческое дитя стал похож, — восклицала она сквозь плач. — А я пьяная, я никудышная… Что я ему? Я ему враг… Хуже зверя… Боже мой, Господи…
И все плакала, плакала. Так фрейлейн Фрида ничего от нее и не добилась. После целого часа стараний она взяла за руку Мишу и увезла его обратно.
Потом было решено, что на следующий день поедет сам Павел Сергеевич. Быть может, ему как мужчине лучше удастся поговорить с ней. Уже было несомненно, что так или иначе, а Мишу оставить в доме придется. Но нужно же было получить гарантию, что его мать не станет врываться в дом и вообще предъявлять права.
В субботу Павел Сергеевич поехал за Нарвскую заставу один. Но там, около хижины, в которой жила мать Миши, он нашел десятка два каких-то людей. Оказалось, что женщина ушла из дому еще вчера под вечер и не возвращалась, и никому не известно, куда она ушла.
— Как в воду канула, — говорили люди, очевидно, местные жители. — И полиции уже было дано знать, и всюду ее искали, и нигде не могли найти.
Через неделю после этого фрейлейн Фрида опять справлялась, и оказалось, что Мишина мать так и не вернулась. Исчезли все ее следы. Тогда нашли нужным сказать об этом Мише.
И мальчик сперва принял эту весть равнодушно, потом погрузился в тихое размышление, а затем вдруг начал горько плакать. Почему-то ему стало нестерпимо жаль эту бедную, вечно пьяную, колотившую его и посылавшую просить милостыню женщину Не было в его душе ни одного приятного воспоминания о ней и о жизни с ней, а вот было жалко, Бог знает почему.
— О чем ты плачешь, Миша? — спросила его Тася.
— Пропала моя мама, — сказал Миша.
— А у меня вовсе нет мамы, — промолвила Тася, и Миша расслышал, что в ее тоненьком голоске что-то дрогнуло. Взглянул на нее — глаза ее были влажны. Тогда он крепко взял себя в руки, вытер слезы и вдруг перестал плакать.
Прошло пять лет. Миша сделался подростком, довольно высоким и стройным. Он носил гимназический мундир и был уже в четвертом классе.
Павел Сергеевич не имел никаких оснований жалеть, что все это так случилось. Напротив, пребывание Миши в его доме принесло ему радость. С тех пор как у Таси явился сверстник, который с первой же минуты сделался ее другом и покорным рабом, девочка стала гораздо спокойнее, и ум ее начал правильно и постепенно развиваться. Нервы ее заметно, хотя и очень медленно приходили в порядок и крепли. Даже ноги сделались сильнее и тверже. Хоть и с большим трудом, но она могла пройти по комнате.
Но и помимо всего этого, Миша не доставлял Павлу Сергеевичу никаких огорчений. Мальчик из него вышел спокойный, тихий и работящий. Он исправно выучивал заданные уроки, приносил приличные отметки и без задержки переходил из класса в класс. Павлу Сергеевичу даже приятно было думать, что из прежнего оборванца, уличного мальчишки выйдет человек
Между Мишей и Тасей установились удивительно своеобразные отношения. Оба чувствовали какую-то необъяснимую общность, как будто у них была одна душа.
Тася не могла учиться в гимназии из-за ног, да и не хотел Павел Сергеевич обременять ее голову обязательным учением. И, несмотря на это, она знала решительно все то, что знал Миша.
Это вышло как-то незаметно, что они, сперва вместе игравшие, когда Миша сделался гимназистом, стали вместе учиться. Миша не мог себе представить, чтобы он учил свои уроки без нее, а Тася тоже не могла представить, чтобы он что-нибудь делал без ее участия. И игры перешли в учение так же просто, как сегодняшний день сменяется завтрашним.
И так как Тася начала учить уроки с первого же Мишиного урока, то учение шло у нее систематически. Она даже могла сказать, что выдержала все экзамены. Ведь они вместе готовились к экзаменам Миши и накануне каждого экзамена устраивали пробу — писали билеты и отвечали друг другу, как на настоящем экзамене. И теперь Миша говорил Тасе:
— Это ничего не значит, что ты не ходишь в гимназию. Ты ученее всех гимназисток, ведь ты знаешь даже латинский язык.
У Миши был характер ровный, спокойный, терпеливый. Тася нередко капризничала, нервничала, даже, случалось, бывала несправедлива к нему, но он переносил это с величайшим героизмом. А потом она плакала, брала его руку и просила у него прощения.
Но бывали дни, когда и Миша был взволнован и как будто терял свое равновесие. Это случалось каждый год в продолжение нескольких дней.
Начиналось это в Страстную Пятницу. В этот день он приходил к Тасе, садился около нее, брал ее руку и говорил тихим взволнованным голосом:
— А помнишь, Тася, маленькую девочку, всю такую белую-белую?.. Невский проспект около Гостиного двора… Толпа прохожих… экипажи… Подъехала коляска, и в ней маленькая девочка… вся белая, — белая шляпа, белое пальтецо, белое покрывало… Помнишь, когда она увидела оборванца, который стоял с протянутой рукой и просил милостыню?.. Увидела и стала плакать и просить, требовать, чтобы его одели… Эта девочка была мой ангел, этот ангел была ты. Ах, Тася, я часто думаю, я ломаю голову над вопросом: каким великим подвигом я отплачу тебе за эту минуту, когда твои слезы возродили меня к жизни? Ведь тот мальчик был жалкий, несчастный, осужденный на гибель… Разве я не погиб бы? Разве я мог бы не погибнуть? Все такие гибнут… Ведь я уже тогда умел воровать… Мне еще совестно было, но я уже умел… Может быть, теперь я сидел бы в тюрьме, а потом и еще хуже… И от всего этого спасла меня ты, ты, мой маленький ангел!..
— Не говори так, я буду плакать, — отвечала на это Тася, в самом деле готовая заплакать. — А ты разве не тем же был для меня? Я была такая одинокая. Когда ко мне приводили девочек, чтобы они играли со мной, здоровых девочек, у которых были такие быстрые ноги, — они смеялись над моими бедными ногами… И я стыдилась их и от стыда и обиды плакала… А когда ты пришел, я уже никогда не была одна. Нас стало двое — навсегда? На всю жизнь?
— О, навсегда, на всю жизнь, Тася. Нас нельзя разлучить, как нельзя человека разрубить пополам… Я всю жизнь буду служить тебе и защищать тебя.
А когда наступал первый день Пасхи, они встречали его воспоминанием о той первой Пасхе, которую Миша провел в этом доме. Весь этот день они были радостны. Он имел для них какой-то особенный, счастливый смысл.
Миша говорил:
— Все говорят в этот день: «Христос воскресе», но говорят это они по привычке, а для меня ведь это было настоящее воскресение. Чувствуешь ли ты это, Тася?
— О, я чувствую, потому что и я с тобой воскресла. Разве ты этого не видишь?
В эти же дни Миша вспоминал свою мать. В продолжение всего года, среди занятий
и детских забав она как-то не приходила ему на мысль. Было что-то далекое в этом воспоминании.
Но тут вдруг она вставала перед ним живая и такая жалкая и несчастная. Тот день, когда он с фрейлейн Фридой, уже переодетый из лохмотьев в куртку, вымытый и причесанный, ездил к ней…
И потом она исчезла. Куда? Может быть, погибла?
Он, конечно, давно уже рассказал Тасе все подробности своего далекого детства. Тася должна была все знать о нем. Он сделал это постепенно, осторожно, мягко, но для Таси уже ничто не было тайной.
И они вместе старались понять, почему эта женщина тогда вдруг исчезла. Она много лет ютилась в своей лачуге и вдруг покинула ее. Этого Миша никак не мог объяснить.
Но однажды, в один из пасхальных дней, когда они думали об этом, вдруг Мишу точно осенило вдохновение. Он схватил Тасю за руку и как-то проникновенно воскликнул:
— А ведь я понял! Знаешь ли, Тася, она, моя мать, сделала это ради меня. Она принесла жертву.
Тася с непониманием посмотрела на него.
— Видишь ли, тогда был вопрос об условиях, боялись, чтобы она не врывалась сюда, не предъявляла своих материнских прав, не вносила бы своих дурных привычек. Мне это объяснила фрейлейн Фрида. А она это поняла, эту боязнь. Может быть, только почувствовала. И чтобы уничтожить ее и укрепить мое новое положение, чтобы не раздумали, понимаешь, — она устранила себя. Ее нет, ее нет совсем, с ней могут не считаться… Она сделала это для меня… Я люблю ее… Она была несчастна. Она и пила, должно быть, оттого, что была несчастна. Разве от счастья пьют? Кто-нибудь, должно быть, ее кровно обидел. Я люблю ее, Тася.
— Я тоже люблю ее, Миша… за тебя.
Однажды на первый день Пасхи Миша пришел домой расстроенный и даже, как казалось, чем-то потрясенный Тася, взглянув на него, сразу почувствовала это.
— Чтo у тебя случилось? — спросила она.
Он сел возле нее и опустил голову, и вдруг из глаз его полились слезы. — Видишь ли, Тася, эти дни Пасхи для меня всегда дни величайшей радости и величайшей печали… Сегодня я нашел свою мать…
— Миша, что ты говоришь? Где? Каким образом?
— Да, можно сказать, каким-то чудесным образом. Ночью я бродил по церквам, как делаю это каждый год. Я люблю толкаться в толпе — должно быть, это осталось у меня от детства, когда я бегал по улицам. Люблю яркое освещение храмов и стройное молитвенное пение. И сам не знаю, как это вышло, что я забрел куда-то за город, далеко-далеко, где нет уже высоких домов, а какие-то бедные лачуги. За Нарвской заставой… Там я провел детство, и туда меня толкнула судьба. Я зашел в церковь. Там, несмотря на бедность, все же ярко горели огни, у людей были радостные лица, и пели ликующие гимны. Я вышел из церкви и пошел какой-то неизвестной мне улицей. Вдруг слышу крики, пьяные голоса, визг, брань. Очевидно, ссора или драка. Я побежал туда. Что-то потянуло меня… Есть, Тася, в человеке какой-то внутренний голос… В обычное время он молчит, но говорит, но зовет, когда нужно, и уже тогда он зовет повелительно. ОН посылает. Я побежал туда… Ну… и… Не хочу рассказывать. Даже вспоминать не хочу. Она, должно
быть, дошла до последней ступени. Пьяная, во время ссоры… Нет, не убита… А, должно быть, сердце… Ну, вот и все. Подхожу, смотрю: моя мать. Я никому не сказал ни слова и только позаботился снести ее в приемный покой…
— Как это страшно! — промолвила, побледнев Тася.
— В жизни есть страшное, Тася. Но его не нужно бояться. Если дать ему волю, оно возьмет верх и задавит человека. У нее была своя судьба, и она довела ее до конца. У нас будет своя судьба, Тася.
Но Тася не могла успокоиться. Она позвала Павла Сергеевича и рассказала ему эту историю.
— Что же ты хочешь? — спросил Павел Сергеевич.
— Ее надо похоронить как следует, папа. Мы должны сделать это для него. Она мать Миши…
—Я это сделаю, Тася. Ты права. Ты всегда правильно чувствуешь, мое дитя.
Это было зрелище, удивившее всех, кто его видел. На второй день Пасхи на далекой окраине города внесли в церковь скромный гроб, обитый глазетом. Молились в церкви, потом свезли гроб на кладбище.
Священник был в светлых пасхальных ризах. За гробом шли: высокий господин с бритым лицом, с почти совсем уже поседевшими волосами, пожилая дама с длинным бледным лицом и гимназист, смуглый юноша с едва потемневшим пушком над верхней губой.
А вслед за ними тихо двигалась карета, в которой сидела молодая девушка с ясными глазами, с вьющимися светло-каштановыми волосами.
И никто не понимал, почему такая честь оказана этой неизвестной женщине, умершей в пьяном виде, во время ссоры с такими же пьяными людьми…
Наступила еще одна Пасха. Тася — семнадцатилетняя стройная девушка, ростом в отца, вся в белом, сидела в кресле и ждала своего друга, который повезет ее в церковь. Она давно уже не была в церкви, но в этот день она ощущала какое-то необыкновенно радостное состояние. А радость отражалась и на ее здоровье, от нее крепли нервы, и ноги ее становились сильнее.
Вошел Миша. Это был уже совсем юноша, с заметно подросшими небольшими темными усиками. Она встала, взяла его под руку, и они вышли. Он осторожно свел ее по лестнице и усадил в коляску.
В церкви она сидела на стуле, но не потому, что не могла выстоять, а просто боялась утомить ноги. В эту ночь, как ей казалось, она все могла.
Когда они возвращались домой в экипаже, улицы были освещены тысячами разноцветных фонарей, толпы людей двигались по тротуарам с горящими свечами в руках.
— Какая дивная ночь! — воскликнула Тася. — Мне кажется, что небо с этими мириадами звезд и земля со всем, что на ней живет, ликуют от радости. Откуда эта радость в моей душе?
— Не знаю, Тася, но зато я знаю, откуда моя радость. Хочешь знать? Я нашел свое призвание.
— О, скажи, скажи…
— Вот я через два месяца кончаю гимназию. Мы кончаем гимназию, Тася, — потому что ведь ты знаешь все то, что и я. Мы получим аттестат зрелости, и с осени я начну заниматься медициной.
— Почему медициной?
— Потому что такова цель моей жизни: служить тебе, Тася, вернуть тебе здоровье… Посмотри, у всех есть здоровье, а у тебя еще нет его. Оно будет. Милая Тася, это цель моей жизни, и вот потому, что у меня такая цель, чтo я ее открыл и познал, потому мне так радостно… Я буду работать до изнурения, до последнего остатка сил, чтобы узнать и изучить твою болезнь и найти средство укрепить твои нервы и в особенности ноги, милые ножки, которые я обожаю. И я добьюсь. Ты будешь ходить, как я, как все… Величайшая радость в том, что знаешь, для кого живешь… Я могу жить только для тебя, Тася, потому что тебе, твоим детским слезам я обязан жизнью и тем, что я — человек.
— О, так я тоже знаю, откуда моя радость… Ты понял? Так молчи… Дай мне свою руку… Христос Воскресе! Да? Христос — ведь это любовь… Ты шепчешь: «воистину»? О, сколько счастья разлито в воздухе этой ночи! Как дивно сияют там в вышине звезды… Какая это радость жить!
И. Островной
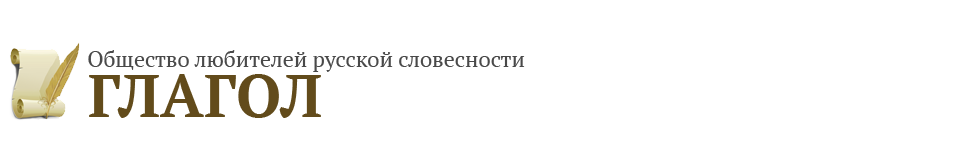


Обязательно возьмем для сценария на пасхальный концерт