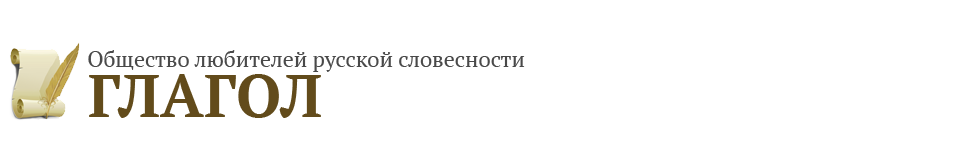Белла Ахмадулина. Апрель
Вот девочки — им хочется любви.
Вот мальчики — им хочется в походы.
В апреле изменения погоды
объединяют всех людей с людьми.
О новый месяц, новый государь,
так ищешь ты к себе расположенья,
так ты бываешь щедр на одолженья,
к амнистиям склоняя календарь.
Да, выручишь ты реки из оков,
приблизишь ты любое отдаленье,
безумному даруешь просветленье
и исцелишь недуги стариков.
Лишь мне твоей пощады не дано.
Нет алчности просить тебя об этом.
Ты спрашиваешь — медлю я с ответом
и свет гашу, и в комнате темно.
1960
****
Бабочка
Антонине Чернышевой
День октября шестнадцатый столь тёпел,
жара в окне так приторно желта,
что бабочка, усопшая меж стекол,
смерть прервала для краткого житья.
Не страшно ли, не скушно ли? Не зря ли
очнулась ты от участи сестер,
жаднейшая до бренных лакомств яви
средь прочих шоколадниц и сластён?
Из мертвой хватки, из загробной дрёмы
ты рвешься так, что, слух острее будь,
пришлось бы мне, как на аэродроме,
глаза прикрыть и голову пригнуть.
Перстам неотпускающим, незримым
отдав щепотку боли и пыльцы,
пари, предавшись помыслам орлиным,
сверкай и нежься, гибни и прости.
Умру иль нет, но прежде изнурю я
свечу и лоб: пусть выдумают — как
благословлю я xищность жизнелюбья
с добычей жизни в меркнущих зрачках.
Пора! В окне горит огонь-затворник.
Усугубилась складка меж бровей.
Пишу: октябрь, шестнадцатое, вторник —
и Воскресенье бабочки моей.
1979
****
Бог
За то, что девочка Настасья
добро чужое стерегла,
босая бегала в ненастье
за водкою для старика,-
ей полагался бог красивый
в чертоге, солнцем залитом,
щеголеватый, справедливый,
в старинном платье золотом.
Но посреди хмельной икоты,
среди убожества всего
две почерневшие иконы
не походили на него.
За это вдруг расцвел цикорий,
порозовели жемчуга,
и раздалось, как хор церковный,
простое имя жениха.
Он разом вырос у забора,
поднес ей желтый медальон
и так вполне сошел за бога
в своем величье молодом.
И в сердце было свято-свято
от той гармошки гулевой,
от вин, от сладкогласья свата
и от рубашки голубой.
А он уже глядел обманно,
платочек газовый снимал
и у соседнего амбара
ей плечи слабые сминал…
А Настя волос причесала,
взяла платок за два конца,
а Настя пела, причитала,
держала руки у лица.
«Ах, что со мной ты понаделал,
какой беды понатворил!
Зачем ты в прошлый понедельник
мне белый розан подарил?
Ах, верба, верба, моя верба,
не вянь ты, верба, погоди!
Куда девалась моя вера —
остался крестик на груди».
А дождик солнышком сменялся,
и не случалось ничего,
и бог над девочкой смеялся,
и вовсе не было его.
****
Быть по сему: оставьте мне
закат вот этот за-калужский,
и этот лютик золотушный,
и этот город захолустный
пучины схлынувшей на дне.
Нам преподносит известняк,
придавший местности осанки,
стихии внятные останки,
и как бы у ее изнанки
мы все нечаянно в гостях.
В блеск перламутровых корост
тысячелетия рядились,
и жабры жадные трудились,
и обитала нелюдимость
вот здесь, где площадь и киоск.
Не потому ли на Оке
иные бытия расценки,
что все мы сведущи в рецепте:
как, коротая век в райцентре,
быть с вечностью накоротке.
Мы одиноки меж людьми.
Надменно наше захуданье.
Вы — в этом времени, мы — дале.
Мы утонули в мирозданье
давно, до Ноевой ладьи.
14 мая 1983, Таруса
****
Бьют часы, возвестившие осень:
тяжелее, чем в прошлом году,
ударяется яблоко оземь —
столько раз, сколько яблок в саду.
Этой музыкой, внятной и важной,
кто твердит, что часы не стоят?
Совершает поступок отважный,
но как будто бездействует сад.
Всё заметней в природе печальной
выраженье любви и родства,
словно ты — не свидетель случайный,
а виновник ее торжества.
1973
****
В тот месяц май, в тот месяц мой
во мне была такая лёгкость
и, расстилаясь над землей,
влекла меня погоды лётность.
Я так щедра была, щедра
в счастливом предвкушенье пенья,
и с легкомыслием щегла
я окунала в воздух перья.
Но, слава Богу, стал мой взор
и проницательней, и строже,
и каждый вздох и каждый взлет
обходится мне всё дороже.
И я причастна к тайнам дня.
Открыты мне его явленья.
Вокруг оглядываюсь я
с усмешкой старого еврея.
Я вижу, как грачи галдят,
над черным снегом нависая,
как скушно женщины глядят,
склонившиеся над вязаньем.
И где-то, в дудочку дудя,
не соблюдая клумб и грядок,
чужое бегает дитя
и нарушает их порядок.
1959
****
Варфоломеевская ночь
Я думала в уютный час дождя:
а вдруг и впрямь, по логике наитья,
заведомо безнравственно дитя,
рожденное вблизи кровопролитья.
В ту ночь, когда святой Варфоломей
на пир созвал всех алчущих, как тонок
был плач того, кто между двух огней
еще не гугенот и не католик.
Еще птенец, едва поющий вздор,
еще в ходьбе не сведущий козленок,
он выжил и присвоил первый вздох,
изъятый из дыхания казненных.
Сколь, нянюшка, ни пестуй, ни корми
дитя твое цветочным млеком меда,
в его опрятной маленькой крови
живет глоток чужого кислорода.
Он лакомка, он хочет пить еще,
не знает организм непросвещенный,
что ненасытно, сладко, горячо
вкушает дух гортани пресеченной.
Повадился дышать! Не виноват
в религиях и гибелях далеких.
И принимает он кровавый чад
за будничную выгоду для легких.
Не знаю я, в тени чьего плеча
он спит в уюте детства и злодейства.
Но и палач, и жертва палача
равно растлят незрячий сон младенца.
Когда глаза откроются — смотреть,
какой судьбою в нем взойдет отрава?
Отрадой — умертвить? Иль умереть?
Или корыстно почернеть от рабства?
Привыкшие к излишеству смертей,
вы, люди добрые, бранитесь и боритесь,
вы так бесстрашно нянчите детей,
что и детей, наверно, не боитесь.
И коль дитя расплачется со сна,
не беспокойтесь — малость виновата:
немного растревожена десна
молочными резцами вурдалака.
А если что-то глянет из ветвей,
морозом жути кожу задевая,-
не бойтесь! Это личики детей,
взлелеянных под сенью злодеянья.
Но, может быть, в беспамятстве, в раю,
тот плач звучит в честь выбора другого,
и хрупкость беззащитную свою
оплакивает маленькое горло
всем ужасом, чрезмерным для строки,
всей музыкой, не объясненной в нотах.
А в общем-то — какие пустяки!
Всего лишь — тридцать тысяч гугенотов.
1967
****
Венеция моя
Иосифу Бродскому
Темно, и розных вод смешались имена.
Окраиной басов исторгнут всплеск короткий
То розу шлет тебе, Венеция моя,
в Куоккале моей рояль высокородный.
Насупился — дал знать, что он здесь ни при чем.
Затылка моего соведатель настойчив.
Его: «Не лги!» — стоит, как Ангел за плечом,
с оскомою в чертах. Я — хаос, он — настройщик.
Канала вид… — Не лги!— в окне не водворен
и выдворен помин о виденном когда—то.
Есть под окном моим невзрачный водоем,
застой бесславных влаг. Есть, признаюсь, канава.
Правдивый за плечом, мой Ангел, такова
протечка труб — струи источие реально.
И розу я беру с роялева крыла.
Рояль, твое крыло в родстве с мостом Риальто.
Не так? Но роза — вот, и с твоего крыла
(застенчиво рука его изгиб ласкала).
Не лжет моя строка, но все ж не такова,
чтоб точно обвести уклончивость лекала.
В исходе час восьмой. Возрождено окно.
И темнота окна — не вырожденье света.
Цвет — не скажу какой, не знаю. Знаю, кто
содеял этот цвет, что вижу,— Тинторетто.
Мы дожили, рояль, мы — дожи, наш дворец
расписан той рукой, что не приемлет розы.
И с нами Марк Святой, и золотой отверст
зев льва на синеве, мы вместе, все не взрослы.
— Не лги!— Но мой зубок изгрыз другой букварь.
Мне ведом звук черней диеза и бемоля.
Не лгу — за что запрет и каркает бекар?
Усладу обрету вдали тебя, близ моря.
Труп розы возлежит на гущине воды,
которую зову как знаю, как умею.
Лев сник и спит. Вот так я коротаю дни
в Куоккале моей, с Венецией моею.
Обосенел простор. Снег в ноябре пришел
и устоял. Луна была зрачком искома
и найдена. Но что с ревнивцем за плечом?
Неужто и на час нельзя уйти из дома?
Чем занят ум? Ничем. Он пуст, как небосклон.
— Не лги!— и впрямь я лгун, не слыть же недолыгой.
Не верь, рояль, что я съезжаю на поклон
к Венеции — твоей сопернице великой.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Здесь — перерыв. В Италии была.
Италия светла, прекрасна.
Рояль простил. Но лампа — сокровище окна, стола —
погасла.
Декабрь 1988, Репино
Белла Ахмадулина