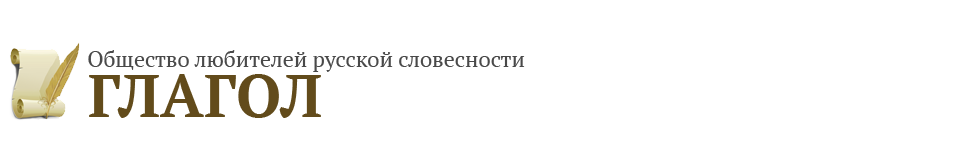Валерий Золотухин. На Исток-речушку, к детству моему

Отец
Я сяду на коня гнедого,
поеду в дальние края…
Кони… кони… рвут кони вены и сухожилия свои. Выпрыгнуть из трясины болотной хотят. Терзает постромки пристяжная, рушит оглобли коренник. Рвутся они за смородиной. На Исток-речушку, к Ермолаю Сотникову… Пришли к Володе, вспомнились, явились от смородишного алтайского духа эти кони, чтобы пронести опрометью по золотому детству.
Отец работал еще начальником тогда. Председателем колхоза. Мать была начальникова жена, председательша. А Вовка с Ванькой и Тонькой-сестрой были начальниковыми ребятишками.
Отец запрягал пару коней. Ездил по полям, бригадам, пасекам, фермам по всему громоздкому колхозному хозяйству, к тому времени укрупненному из мелких в одно большое. С первым солнышком подгонял пару под крыльцо Алексей Шаталов, однорукий колхозный конюх. Прикручивал вожжи к тополям и уходил. Дальше везде, пока не падали от устали кони, отец правил сам один — и в жару и в буран. Только коробок или кошеву полнешеньку сеном набивал, чтобы не так колотило летом и не продувало зимой. Под сено тайно мелкокалибровую винтовку хоронил — мало ли кто коней председателевых подстережет — волки ли голодные, люди ли, Советской властью недовольные. Ах, кони, кони… Володе казалось, что лучших коней, чем отцовы, нет на всем свете и быть не может, потому что отец его сильнее и главнее всех. Это же счастье какое — прокатиться на отцовской паре до конца, и без сердца (оно выпрыгнуло и в ямке лежит) возвращаться через все село, обратно по высокой пыли от ихней пары, и глазеть, и запоминать, кто из мальчишек видел езду. ОН БЫЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА, УКРУПНЕННОГО, ЧТО ЗНАЧИЛО — ПОЧТИ ХОЗЯИН РАЙОНА. Мать редко с ним ездила. Отец это позором считал. «Что люди скажут: «Ишь ты… председателева баба на колхозной паре… Ишь ты, как выхваляется перед народом…»
Подолгу мать всегда упрашивала отца взять ее на пасеку к деду Сотникову на Исток-речушку смородины побрать… да и хмелю тоже. «Люди ведрами несут, варенья понаставили подполья полные, а мы еще ни с чем пироги. Отец, ребятишек пожалей — без пирогов останутся, и ты без пива…» — «Дак ведь ляга там, не проедешь…» — «Ну ведь вёдро уж какой день, подсушило небось… да на твоих чертях море перескачешь…» Отец отмалчивался. Он не хуже знал срок ягоде и Сотникову намекнул, что может накатить в любой момент. С матерью он в делах совета не держал и сказал вдруг:
— Собирайся, завтра Шаталов коней подаст. Совсем рано поедем, чтоб людям в глаза не лезть.
— Ох, батюшки-светы! Ну что ты, отец, за человек такой! Вечно врасплох… Ведь Дусю предупредить надо, чтоб корову подоила, свинье корму дала, курей посмотрела… Ребятишек придется с собой… Ну характер, вечно все врасплох.
А к деду ехать далеко. Вставать рано, с гусиной кожей… Прудить с высокого крылечка и обуваться по-скорому — кони ждать не станут… Гоголь уж пену роняет, а Рыжка извихлялась вся… Отец опять ищет ремень гимнастерочный, шумит почем зря, будто этот ремень командирский прячет кто каждое утро…
Сколько помнил Володя, отец никогда не присел к столу позавтракать. Как находился ремень, отец подходил к лавке, брал и подносил ко рту первый попавшийся сосуд… Ведро ль с водой, корчагу с квасом или глечик с простокишей… И долго пил отец, не отрываясь. Казалось, никогда он не кончит пить, так и будет стоять и дуть памятником, казалось, уж реку выпил. И страшно Володе делалось за отца — лопнет вдруг. Но все заканчивалось благополучно. Памятник оживал и, гремя подковами, уходил к лошадям. Так было всегда, так было и сегодня. Заткнули веткой дом, вышли за ограду. Мать подсадила Володю в коробок, Ванька взлетел на передок. Отец проверил, плотно ли сидят «воробьи», не вытряхнутся ли при скорой езде. Усадил мать… Отвязал вожжи, натянул… Подался всем скрипучим телом, осаживая коней, которые тронули, едва хозяин занес одну ногу в коробок… Другой еще бороздил землю, вроде тормозом, подметки и след оставляя по пути… Вот и вторая нога отпустила землю…
— Пошел, милок.
«ПОШЕЛ, МИЛОК…» Почему отец обращался и разговаривал всегда с одним конем? Ведь два его всегда носило. Нет, не всегда. Редко, когда только по селу да недалеко, ездил он и на одном — на любимом Гоголе. Какой конных дел грамотей дал жеребцу кличку великую? Но гоголь и птица есть… может, от нее…
Быстро проскочили деревню задами, чтоб народ не косился, как председатель бабу с ребятишками по ягоды на колхозной паре покатил.
Кони тянули в согласии, колеса мелькают так, что в космос оторваться могут, если не углядеть… Мать караулит Володю, чтоб не вывалился… Ванька за вожжи на передке держится, теребит их у отца, чтоб лошадьми поправить… Отец потихоньку ослабляет, Ванька сам натягивает, всем щенячьим телом уцепился. Но отец контролирует, совсем не выпускает. Ваньке это не нравится — он всей самостоятельной силенкой с Гоголем хочет сравниться и злится, что не по его… А Вовке совсем за вожжи подержаться не велят. Он маленький инвалид… ГАДКИЙ УТЕНОК.
У него под сеном костыли лежат. Год назад он из санатория вернулся, где его лечили от туберкулеза коленного сустава. Теперь процесс остановлен, говорят, но лет до семнадцати врачи прописали ему костыли не бросать. Он обижен судьбой, потому и не обижает его брат Ванька и многих ребятишек в селе поколотил за младшего брата, которого они «Костыль-трест» дразнили. Вовка гордился Ванькой. Ванька против всей улицы за брата выходил. А Вовка артистом хочет стать — гуттаперчевым мальчиком под куполом в золотом костюмчике летать… С тонкими ногами, гибкими ветвями рук и челочкой до глаз, как у соседа Вадьки. Прыгнуть из-под самого неба ласточкой на спины коней и крикнуть «ОП-ЛЯ!» под стрекот барабана и рев толпы!!! «Выскочка ты, — говорила ему учительница по истории за то, что он парням нерадивым подсказывал, — утенок ты гадкий, а не артист». И обида, со злостью смешанная, брызгала из Володькиных глаз. «Я вам покажу, я вам докажу… Я прыгну гуттаперчевым мальчиком в золотом костюмчике на спины моих коней двумя своими ногами, и вы еще не раз заплачете, как плачут мужики, когда я пою «Шумел сурово Брянский лес!». Я еще прокачусь на своих вороных, гремя славою по вашему забытому переулку!!!»
Ах, кони, кони быстрые… куда вы завернули? Ведь за смородиной Володя едет на Исток-речушку… (Об этом вспомнит — или придумает? — много лет спустя.)
Ничто, видимо, не проходит зря. Все имеет свой результат и назначение. Не назови его люди гадким утенком, не захотелось бы ему теперь до смерти костюмчика в блестках. Не раздразни они его, не замыслил бы он теперь всем доказать, раз они не понимают, что он с самого рождения под куполом. Он родился скоморохом, профессионалом, то есть тем, кому ремесло такое хлеб дает, а не только забаву. Он рано понял, что петь или плясать есть тот же труд, как в колхозе, за который могут накормить или приласкать. Совсем маленьким, в голодное время войны он зарабатывал так. Мать привязывала его за ногу на крыльце, оставляла хлеба, что-нибудь пить и уходила со старшими, уже помощниками, в поле.
От нечего делать он вспомнил материны песни и стал ими привлекать к своему крыльцу тех, кто не мог воевать или работать. И люди давали ему за песни кто чего: яичко, пирожок какой. «Эй-эй, герой, на разведку боевой… Мама будет плакать, слезы проливать, а папа поедет на фронт воевать» и т.д. Репертуар не обширный, но «эпохальный». И мама проливала, и папа проливал, а отрок пел до посинения за стакан молока. И понял: то, что кормит, есть работа, значит, он будет петь всегда. Его и нынешней зимой в трескучие морозы и непролазные бураны, завернутого в одеяло и сто тулупов, в кабине трактора (иначе не пробьешься) возили по деревням, чтоб он тамошним крестьянам пел «Вижу чудное приволье, вижу нивы и поля…». Как только мать отпускала? Что думала, как не боялась?! Или она чуяла, что он сроду не научится ничего другого делать, так уж пусть поет, раз поет. Но ведь люди говорят… утенок? Но нет, это не про него. Кажется, рано они его отпевают. Он свое молоко дососал. ОН ЕЩЕ ЗАНУЗДАЕТ СВОИХ КОНЕЙ, И ОНИ ВЫРВУТ ЕГО НА МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ. Он еще просвистит оттуда. Он еще попросит прощения за дерзость свою и сам простит всех. Только простят ли его? Если действительно просвистит с Млечного, то простят. Только что-то встали кони… Но, милок, пошел, милок. Нет, не идут дальше кони… Стоп, хозяин, не гони. Трясина впереди, ляга.
Ляга… Встали кони…
— Вперед, милок, пошел!
Хлещет Ванька коней вожжами, не идут. Не доверяют ребячьей силенке… Отец ждет. Хмурится.
— Что ли, грунтовая поднялась или дождевая так застряла… Хворосту нарублено, набросано, все втоптано, перемешано трясиной и непролазно, видать… Чертово место… А до деда рукой подать… Только проехать как?.. Держи, мать, ребятишек.
Выбросил ногу из коробка, поверху над водой остановил, для страховки бич раззмеил…
— Но, милок…
Фыркнул Гоголь… Неохота… Чует чертей…
А рядом вертихвостке Рыжке все равно, дернула постромки, но не тут-то было стронуть.
— Пошел, милок! — покрепче голосу набрал председатель.
Ударил хвостом Гоголь, дескать, как знаешь, и зачавкал копытами… Осторожно пошел, как по стеклу, дотрагиваясь еле. Но вот спружинился на миг и прыгнул башкой к солнцу, в болото вонючее!
— Но, но! Пошел, милок! Айда, стервец!!!
По брюхо кони, хрипят, тонут… Вода в коробок просачивается… Вопят ребятишки, воронье насмехается… Рвут кони вены свои и сухожилия!!! Выпрыгнуть из трясины проклятой хотят!! Терзает постромки пристяжная Рыжка. Рушит оглобли коренник Гоголь. Режет злобой горло председатель!
— Пошел, стервец, но!! Но!! Бич… Бич дай, раззява, чтоб тебе со всей смородиной, будь она проклята! Вылазьте, прыгайте в грязь, сукины дети! Коней решу — утоплю всех в этом болоте!.. Эй вы, сволочи дохлые!
Свистнул бич по лошадьим хребтам и мать зацепил, то ли случайно, то ли в сердцах. Та голосит, причитает… Оттащила ребятишек, лица не видать — вся в жиже, в вони, по шее кровушка змеится, может, и лошадиная.
Вовка орет:
— Папа, не надо бить маму… папа, не бей маму!..
Ванька трясется. Глаза как у бешеного чертенка — ему коней жалко:
— Не бей коней, не бей, не бей, не бей коней!..
— Замолчи, ублюдок! Засеку всех в кровь! — кричит отец, а сам постромки рубит — освобождает Рыжку. Та совсем смирилась, по уши ушла почти и Гоголя тянет. Освободил ее председатель, кинулся к задку коробка. Пружинится, приноравливается Гоголь. Раскачивает коробок председатель. Даже воронье затихло, глядя, как трудятся мужик и конь.
— Пошел, милок!!!
Выстрелил бич… Взвизгнул Ванька… Простонала мать… Ржанула кобыла… Рванул изо всей силушки своей хорошей конь и победил.
Вытянули на ту сторону!.. Стал председатель убытки считать. Колесо к чертям… оглобли пополам… постромки порублены, кони и дети одного цвета загнанного, замученного.
Только мать одна как ни в чем не бывало: умылась уж где-то и опять солнышком сияет.
— Ну, слава нашим, перескочили… Теперь-то уж мы черта лысого без смородины вернемся… — подмигивает ребятишкам.
Коней обтереть сеном, обсушиться маленько — дух перевести. Колесо, оглобли наскоро вожжами перемотать, обматерить еще раз всех напоследок сердце освободить — и помаленьку…
— Пошел, милок.
Кони тронули.
Ермолай Сотников
Колхозный пасечник издали коней председателевых узнал. «С Мотькой, однако, с ребятишками… за смородиной, однако. Ох, баба! Ну, знает, куда ездить… ведра четыре упрет, знамо дело… Орду свою с собой прихватила, знать, облаву затеяла на смородину мою».
Так он стоял и рассуждал с собой, на одной ноге, упершись костылями в землю, под широченной кепкой, как здоровенный гриб. И щурился против солнца, откуда шагом шли председателевы кони… или стояли на месте? Но раз увеличивались, стало быть, шли. Но почему шли, когда председатель всегда с громом и собаками к жилью подлетал… «Кони устали, что ль, или насажал много? Но как же они через ляху, через чертово болото… или перелетели на крыльях каких? Но так просто я вам свои кладовые не покажу, нет, не покажу, не разрешу… Вы у меня отработаете эту смородину. Не погляжу, что председатель да председательша! И ребятишек заставлю работать! Я вас научу смородину любить!»
— Стой, милок!
— Здорово ночевали, гости дорогие! А я было хотел половики постлать и за вами послать, а вы сами явились. Чего вам дома не сидится?! А что с конями-то? Ох, разъязви тебя… вот это хозяин! Ты почему коней-то не жалеешь, а?! Срамота какая! О, да у вас авария, однако? Колесо-то, как обратно?..
— Твое возьму.
— Мое? А я с чем останусь? Может, ты и ногу мою конфискуешь?
— Завтра с одноруким пришлю.
— Да вы что? Обратно сегодня или заночуете?
— Может, сегодня, а может, завтра, по росе… Баню затопляй…
— Баню? Вы, что ли, по бане соскучились или еще зачем? Медку ведерко или еще чего?
— Да вон смородины захотела, не отвяжется, чуть коней не решил.
— Это разговор хороший. Рясная, шибко рясная смородина нынче, и места тут небраные, нетронутые… не отходя с куста, на всю зиму, ага… Но смородину-то отработать, однако, надо… надо, надо… Ребятишки, сведите коней к обрыву, искупайте и напоите… Рыжку спутайте, а Гоголь не уйдет. Иль тоже спутать… Нет, не надо, не отойдет он от нее. И по пути березничку веника на четыре наберите. Не больше как на четыре. Да не ломайте, поаккуратнее… проверю… Мотька! Бери ведро и, пока не рассиделась квашней, дуй в Волчью забоку… Да по краю чеши, в чащобу не забирайся, по краю крупнее, врать не стану. А мы с тобой, Ларионыч, нужник сейчас переставим, а уж потом баней займемся.
Беспокойный это был мужик, Ермолай Сотников. Все его на свете интересовало, свербило, не давало спать. Дед любил узнавать, работать и творить все сам, своими руками. Даже стриг себя сам. Стриг наголо. Не всегда ровно выходило, кое-где иногда наблюдались огрехи. Из чего дед заключил и нередко повторял, что «надо уметь постригаться… Не то тебя постригут». В солнце всегда носил большую кепку с огромным козырьком, тоже сварганенную своими мозолистыми руками. Такой человек на месте не посидит спокойно, все чего-нибудь ищет поработать. Без дела уставал, хандрил, проклинал весь белый свет и все, на чем он держится.
Управившись нынче с утра по пасечным делам, он стал проводить в жизнь давно задуманное мероприятие — перенос плетеного сортира, что дверью-дырой смотрел в чисто поле, на новое, более соответствующее место. Со стороны, скажем, тому же председателю могло показаться, что дед дурью мается — стоит себе сортир, ну и пусть стоит, никому не мешает, да и нужен-то он в этом забытом месте только одному деду. Но Ермолаю показалось, что пчелы снизили производительность и качество из-за того, что сортир близко к ульям и в них оттуда надувает.
Он принадлежал к такой породе людей, которую от мала до велика уважают сразу, на расстоянии, ищут совета и осуждения которой опасаются. На что председатель, гроза колхоза и района, мужик грубый и властный, от недовольного взгляда которого иные будто ростом меньше делались, нередко наезжал к деду вроде случайно, на самом деле доброго совета послушать. И хоть из гордости вид делал, что не соглашается, на обратном пути, в кошеве, под еканье селезенки Гоголя принимал дедовы выводы без поправок. Разница в летах у них невелика была — что-то около семи годов, — но природа Сотникова брала верх. В свое время Ермолай сам был председателем и комбеда и коммун первых, всю механику коллективизации постиг с самого зарождения. Прошел гражданскую, бежал от Колчака в партизаны. В последнюю войну с немцем потерял ногу, получил инвалидность и отошел от общественной жизни. Вернувшись из госпиталя, заполз Ермолай в баню, не заглянув в хату, не осмотрев, как выросли ребятишки, как обезмужичила деревня. И долгие месяцы пролежал там в тоске и в одиночестве, не вылезая свет поглядеть. Словно узнику, приносила ему баба питье и еду — ставила горшок у порога и уходила. Дальше он не пускал никого. Даже хлеб свой он не мог есть при людях. Так мучился безножием.
Ночью одной выполз Ермолай из своего логова, оглядел двор, посмотрел в небо — и остался. Утром заявил старухе и детям, чтоб призвали к нему председателя. Долго мужики толковали, а вечером к дому Сотникова подошла подвода с кузнечным горном. Баню-логово переделали под кузню, и стал Ермолай колхозным кузнецом. Какая тревога извлекла его из бани, бог весть!
Много лет спустя, когда прошла боль, зажила беда и война стала такой далекой, будто и не была вовсе, дед рассказал про сокола, которого ребятишки привязали нечаянно под оконце его бани.
Вот пройдет моя беда со кручиною,
Я взовьюсь, млад-ясен сокол, выше облака…
Ребятишки подранили соколенка. Подобрали во ржи, и принесли домой, и привязали во дворе за ногу. Весь двор сразу вымер будто. Куры, подхватив цыплят, в панике схоронились и замолчали, дуры. И петух смылся. Правда, иногда он появлялся, вроде как на разведку, на почтительном — не достать расстоянии, вытягивал шею, растопыривал очи, в ужасе и нахальстве разглядывая поверженного, прокукарекивал нечто высокомерное и быстро смывался, где ни достать, ни даже просто глянуть в его бесстыжие глаза. Хозяйка не могла нарадоваться такой оказни. Соседские куры забыли дорогу и в ее огород, и к чужому петуху. И не надо было теперь охранять цыплят от злодеев коршунов. Те как почуяли, вороги, что кончилась им лафа на этом подворье. Вот какая сила от земли до сини небесной исходила от спутанного и сидевшего на приколе соколенка, который между тем подрастал, залечил крыло и беду свою, стал пробовать ходить и соколом становиться. Только маленькие ребятишки досаждали ему, щекоча прутиками: маленькие злые бывают — по неразумению еще. В какое-то утро сокола не нашли. Раздолбив клювом собственное запястье, он ушел к своим заботам. Он ушел. Но долго еще не появлялись коршуны и соседские куры на этом дворе, так что цыплята успели вырасти. Ермолай Сотников, глядя в это утро на оставленные сухожилия сокола, велел бабе призвать к себе председателя.
Но не одни сухожилия оставил ушедший в память свою. И не только Ермолай один пристыл к месту, сраженный вольным примером. Похожая проба и в человеческой судьбе откликнулась, и выпала она на долю его сына Вальки много лет спустя.
Ермолай кузнечил еще, а сын его, Валька, шоферил, возил зерно с глубинок по зимней дороге — рекой на элеватор в город. Невыносимые это были рейсы на плохих пятитонках, в сорока-пятидесятиградусный мороз по заметенным, непролазным путям. Мужики сговаривались в компании и шли пятью-шестью моторами, чтоб выручать, вдруг встанет кто. Иногда, если набирался большой караван, передом полз мощный трактор С-80 с клином, расчищая заносы. В этот раз его не было. Валька шел последней машиной. И поднялся буран. Они знали, что он будет, но рассчитывали добраться до ночлега, пока разыграется вовсю. Четыре машины с большим разрывом друг от друга дотянули на подворье. Последней, Валькиной, не было тревожно долго. Пошли выручать и нашли Вальку, живого, слава богу, но… уже не целого.
Машина его сошла с колеи, давно неразличимой во тьме и снеге, забуксовала и заглохла. Валька выскочил посмотреть и тут же брякнулся навзничь, сбитый ветром. Кое-как бензином разжег факел, поддомкратил кузов, стал откапываться и совать под колесо полушубок. Машина скользнула с домкрата и впаяла Валькину пятерню в наледь. И остался бы Валька навеки приваренный к своей «ласточке», если бы он от другого отца родился и другую титьку сосал. Лопатой перерубил он собственное запястье и ушел. И спасся, оставив под колесом мозоли свои. Вот какая это была порода!
…Баня у Сотникова-деда (как и у них) — по-черному. Когда топилась, дым из всех щелей. Такая же каменка, то же слепое оконце и та же керосиновая лампа без стекла. Стояла она чудесно, у самой воды, у самых лилий. Мужики долго парились, напялив шерстяные рукавицы и носки, чтобы ногти не горели. Кряхтели, стонали, выскакивали врозь и вместе на улицу и плюхались в чистейшей воды речушку Исток с лилиями и плавунами. Очухивались в воде, отходили, и снова упаривались, и снова очухивались. Потом затащили Ваньку, намучили его, нахлестали, будто конопатины ему отпарить хотели, и тоже в воду бросили.
И Володе хотелось испытать на себе березовый веник и прохладу Истока, но ему запрещено врачами перегреваться и переохлаждаться. Год только назад он вернулся из детского костно-туберкулезного санатория, где пролежал не вставая три года. Разучился ходить и стоять. Надо было начинать все сначала. По две минуты в день, на костылях, подхваченный со всех сторон няньками, учился ходить по земле. Когда за ним приехала мать, ему было разрешено ходить в сутки сорок пять минут.
Теперь он стоял на бугре будто завороженный, повесив себя на костыли, и руки, несоразмерно длинные, струились по ним арбузными плетьми. И наблюдал за мужиками и конями. И запоминал. Больная нога не доставала земли, хотя специально была вытянута песочными мешочками сантиметра на четыре сравнительно со здоровой. Но на нее нельзя наступать. Ботинок на здоровой ноге подбит для этого толстой деревянной колодкой. Года через три ноги должны сравняться по длине, но и тогда все равно нельзя будет наступать еще на нее.
Где-то в классе восьмом начнет Володя осторожно приступать на эту ногу, а в девятом бросит костыли в сторону и затеет учить присядку, так что хрящи захрустят на весь дом и отца перепугают. И поставит перед собой — не петь на елке, не читать, не играть на аккордеоне, а только плясать. Плясать «Яблочко», матросский танец с присядкой. Только бы дожить до десятого класса, только бы не было войны… И не облысеть. Артист должен быть с волосами, с длинными и косматыми. У всех приезжающих артистов были такие волосы. Значит, так надо. Володя заметил, что, если вымыть голову водой из ихнего колодца, волос становится так много, что не расчешешь. Такая получается шевелюра, как у цыгана.
КОГДА ОН СПЛЯШЕТ «ЯБЛОЧКО», ПОЛУЧИТ ЗА ОКОНЧАНИЕ ШКОЛЫ СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ И ПОЕДЕТ В МОСКВУ ПОСТУПАТЬ НА АРТИСТА, НАЛЬЕТ ОН ИЗ СВОЕГО КОЛОДЦА БОЛЬШУЮ БУТЫЛКУ ЭТОЙ ВОДЫ И ПОВЕЗЕТ С СОБОЙ.
Теперь он стоит на пригорке как завороженный, отрок с распахнутыми немигающими глазами, через которые в него протекает мир с конями и трясиной, с мужиками и лилиями. Он знает, что должен услышать и запомнить, как гукают мужики в бане. Не забыть, как пьет по утрам молоко отец, как он ищет ремень и стаскивает устало сапоги после пашни. Увидеть и запомнить, как гнет к земле шею Рыжка и охраняет ее Гоголь. Узнать и на всю жизнь унести запах смородины, который станет его религией и очищением. Запомнить и потом при случае восстановить, «передразнить».
Мать часто заставала Володю в таком застывшем созерцании и, не спугнув, говорила:
— Ты бы сел, сынок, а то утомишься или сутулым рано станешь. Гляди, как спина согнулась и плечи выше головы. Артисту нельзя быть сутулым. Артист должен быть стройным и звонким, как Лемешев. Надо деда Сотникова попросить, чтоб нарастил костыли.
Вернулась она с полнешенькими ведрами смородины, исхлестанная в кровь дебрями, слепнями и мошкарой, но счастливая.
Без конца нажваривала себя веником и, раскаленная, как блин со сковородки, кидалась к карасям, аж вода шипела вокруг.
И долго с речушки, из белых лилий доносилось до мужиков и коней: «Ох, господи… до чего же хорошо… Ах, хороша Советская власть… ух… ах… их…» — пока отец не устал ждать, рявкнул:
— Мотька! Околеешь, дура, накрывай на стол!
— Сейчас, отец, сейчас… еще маленько… собирайте без меня…
— Да не мешай, пускай купается, — заступился Ермолай. — Ребятишки, режьте хлеб, чайник долейте, костер расшевелите, помогайте матери — одна она у вас!
Одна она у меня, моя мать…
Моя мать
Как она меня носила,
Христа-милости просила.
Как она меня рожала,
Богу душу отдавала…
— Ох, да не вспоминай, сынок, и что у тебя за привычка помнить обо всем и узнавать?
— Говорят, душа человеческая в семи воробьях, которые разлетелись, как мы от тебя. И чтобы обрести душу и всему не умереть, надо найти эти семь разлетевшихся. Вот и пытаюсь я своих сыскать, собрать свои капли в дырявый кувшин судьбы моей. У каждого человека должны быть святые воспоминания, они сберегут его. Рассказывай, мама. Давай вспоминать. Если не для меня, если меня не спасти уже, то для сына моего, нашего с тобой продолжения. ОН ДОЛЖЕН ЗНАТЬ СВОИ КОРНИ. Я оставлю ему твои письма и твои рассказы. Я оставлю ему свои дневники и воспоминания. Пусть разбирается и сам пишет для своих детей. Пусть он отыщет своих воробьев, свой кувшин росы соберет. Я ему помогу в этом, как ты всю жизнь помогаешь мне. Рассказывай…
— Ну, слушай, коль действительно нужно… Подхвачу я вас из яслей одного за руку, другого на санки посажу — и бегом домой. А буран стегает в глаза. А бабы вслед кричат: вон, дескать, побежала со своими утятами. А уж если совсем сногсшибательный ветер, в яслях на ночь оставляла, благо сама заведующей была, ага… А вы не остаетесь одни, домой проситесь, орете… А дома скотина не доена, не кормлена, а войне конца не видать, однако… Да, господи милостивый, ну что делать? Ложусь с вами сама. Одного по одну сторону, другого по другую — стану вам про Глинышка рассказывать, чтоб уснули скорей, да сама еще не засыпаю. Вовка быстро уснет, а Ванька-чертенок до конца дослушает и все дальше да дальше просит… Ну уж кое-как на третьей сказке угомонится. Закрою вас на замок да скорей домой. Корова орет, изба выстоялась. Подою, сена задам, воды натаскаю, чугун в печь кое-как протолкаю и скорей назад, пока вы не проснулись. Помню, скатали тебе новые валеночки. Ты пришел в ясли, снял их и под салфетку положил. «Вова, да ты почему босиком-то?» — «Ага, буду я еще свои новые пимы о ваш грязный пол марать». Ну смеху было! И вот никак не могли отучить от титьки тебя. Любил молоко, запах и цвет его, умирал по нему. Но молока не было. Была война, и зима, и корова Юнка не доилась… Потом в детсад с Ванькой пошли… Уж отец с фронта пришел. А в детсаде какой присмотр? Так себе… До сих пор проклинаю, что отдала… Загляделся ты со второго этажа на дождь и хряпнулся… А чего там? Перила-то гнилые были. Ребятишки как высунулись струйки гладить, ну и столкнули тебя с ними… На закукорках сосед тебя принес. Идти не мог и держаться тоже… потому что левую ногу ушиб и руку вывихнул. На ногу-то утром стал, а рукой не шевелишь, больно. Ну, руку-то вправили… А нога пухнуть стала… Дальше больше.
Поехали мы с тобой в Барнаул. Хирург посмотрел, покрутил носом: «Гипс бы ему наложить, да бинтов нет…» Прописал покой и ихтиол. Опять домой ни с чем. А опухоль растет… Бегаешь за ребятишками, играешь, не отстаешь, а как зацепит кто, ты в крик. Упадешь на месте и резаным голосом. Может, от обиды больше… Да нет, болело… Потом уж и бегать не смог. Походишь маленько и всю ночь стонешь во сне: «Мам, ножка болит». Опять я к отцу давай приставать — поедем, отец, в Барнаул да поедем. Ну, поехали… Ходили по Барнаулу, ходили — нигде толку не добьешься. А уж признали туберкулез… А туберкулез по путевкам… А путевок нет… Отец прямо в крайком, с тобой на руках к самому Беляеву: так, мол, и так, сын болеет. Тут же путевку в Чемал. Ну что ты, начальник все же был, век на партийной работе.
И повезла я тебя по Чуйскому тракту… А он ведь аж черт-те куда ведет, аж в самую Монголию. Не знала я тогда, что на три года увожу. Смотрю я на эту бесконечную дорогу и причитаю:
Коты-браты,
Воробьи-браты,
Понесла меня
Баба Яга
За крутые горы,
За быстрые реки,
За темные леса…
А кругом горы, а кругом леса, а внизу, в пропасти жуткой, Катунь шумит — холодная, быстрая, гремучая… Заверти на ней сумасшедшие, пороги страшенные. А мне казалось, да и на самом деле так оно и было, — не снегом талым и родниками, а слезами моими родилась и жила Катунь-река… И над ней дорога — высоко, круто петляет, кружит… И все дальше, все выше. Сколько машин и шоферов нашли свой приют в ней, в реке Катуни! Закружит тракт, завертит, затуманит… А Катунь тут как тут — встречает всех, подлавливает… Как две сестры-змеюки, этот тракт и Катунь… стерегут… одна ведет, другая заглатывает… И вот я везу тебя, баба-яга, сыночка своего, из петли в петлю… Зимой-то уж совсем не добраться было до Чемала. А летом огород, хозяйство, куда от него… Только осенью, дождями мерила я этот Чуйский тракт…
Милая моя мама!
Я вижу, как ты еще совсем не старая… Совсем еще…
Рвешься ко мне, где я теперь… Через годы, через экраны моих
удач и поражений, через обложки журналов и газетную пену, через
номера гостиниц… Ты рвешься ко мне, как тогда по Чуйскому… А
я все дальше, а меня все не достать. Меня свои тракты кружат,
своя петля, своя Катунь стережет меня. Долго ль мне еще петлять,
и сколько еще простыней гостиничных мне измять, и где та, что
будет последней?! Спасибо тебе за детство мое, мама! Иной раз в
душной электричке, когда я спешу в больницу к сыну моему, меня
терзает пережитое тобой и ко мне возвратившееся… И такой же
унылый, монотонный дождь… Я вижу тебя, почему-то накрывшуюся
хозяйственной сумкой, в кузове полуторки. Ты не садишься в
кабину, чтоб шофер не отвлекся на красу твою и не загремели вы
оба в Катунь-реку. И ты мокнешь, и хлещет тебя и поливает
бесконечный дождь… Но глубже Катунь стала от слез твоих,
правда… Благословенно сердце твое, да святится имя твое…
Валерий Золотухин