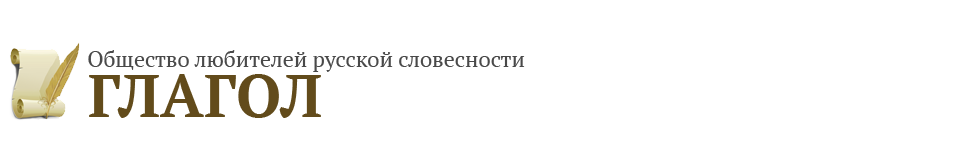Акоб Мндзури. Мое село

Об авторе
В дни, когда отмечалось сорокалетие гибели и восьмидесятилетие со дня рождения Егише Чаренца, из Константинополя пришла и в шуме юбилейных мероприятий осталась неуслышанной весть о смерти Акоба Мндзури — Акоба Демирчяна — патриарха разбросанной по всему свету многоцветной армянской литературы, сына лиловых гор Мндзура, стамбульского пекаря, носильщика, торговца свечами в армянской церкви, заблудившегося в новом времени посланца древнего армянского села.
Ему было девяносто два года, но потому, что он описывал армянскую деревню конца прошлого — начала нынешнего века — а эта деревня сохранилась такой, какой была при Кучаке и еще раньше, во времена Багратидов и арабских нашествий, и еще до того, во времена Ксенофонта — казалось, был он свидетелем минувших лет в сегодняшнем дне. Единственным, незаменимым, бесценным свидетелем. Прекрасный рассказчик, автор “Возвращения”, “Стамбула”, “Стыда”, “Муленка”, “Злобы” и многих других маленьких шедевров — он оставался незаменимым бытописателем: что ели армянские крестьяне, во что одевались, когда сеяли, что сеяли, как жали, кто были жнецы, как зимы зимовали… Этнографически точное описание быта не помешало Мндзури создать истории душевных бурь, столкновений и драм, а естественная ревность художника не помешала этнографу: Мндзури сумел гармонично соединить в себе крестьянина села Армтан, что возле города Ерзнка в Нагорной Армении, описывающего свой небольшой край с точностью и знанием полевого сторожа, и армянского писателя, создающего полные тревог и надежд рассказы. Этнографизм Мндзури при жизни его, к несчастью, считался недостатком.
С каких пор и почему бытописательство используется у нас в качестве критерия оценки художественного произведения, причем критерия отрицательного? Давно, очень давно, с тех самых пор, когда наши летописцы описывали все на свете, начиная со ржавой сути полумесяца, и не касались только быта и обычаев своего народа. Одеждой и обувью, сохраненной для нас Мндзури, можно одеть- обуть всю нашу нагую и босую историографию; кушаньями, принесенными нам Мндзури — накормить весь наш с Ксенофонтовых пор живущий и трудящийся народ. Мндзури — энциклопедия сельской жизни; и энциклопедисты, и армянские лексикографы не раз еще обратятся к его книгам.
В первое десятилетие нашего века, десятилетие национального пробуждения, когда Ованес Туманян пересказывал для армянских детей героический эпос о Давиде Сасунском и вся армянская поэзия мужала с надеждой на победное будущее, Мндзури — сама незаметность, сама обыденность существования — подобно боготворимым им армянской невестке и армянской бабушке, пославших хозяев дома на отхожий промысел в чужие города и взваливших все заботы по хозяйству на свои плечи, пядь за пядью и поворот за поворотом прилежно наносил на карту своего творчества все звуки и краски родного края. Ни одно деревце, ни один родник или тропинка, ни один цветок, ни одна шутка и ни одно происшествие не ускользнули от его внимания, не укрылись от его глаза, от его слуха; все образы и все звуки записывались в его сердце и мускулах — да, именно в мускулах — сельского учителя и сельского косаря. И оставался, и был он для этих голосов и ароматов — фонографом ли, хранилищем… нет подходящего слова… оставался самим собой — Акобом Мндзури, посланником исчезающего мира в литературу будущего. Была ли эта звуко- и ароматопись сознательной работой будущего писателя или предвидением грядущих потрясений — это другой вопрос. Но так или иначе, вследствие геноцида ли или наступления цивилизации старый мир Мндзури должен был исчезнуть — он чувствовал это по чудовищному дыханию большого города — но перед исчезновением своим успел запечатлеться в душе своего сына и своего летописца, запечатлеться таким, каким был.
— Цорники Григор, закатав штаны и взяв в руки посох, после смерти жены пускается в путь за тридевять земель в сторону города Акна, где его не знают, чтобы найти себе жену, потому что в окрестных селах, где его знают, за него, редкого лодыря, замуж никто не пойдет…
— В садах, что в ущелье, змея укусила, ужалила в палец попадью, попадья умирает, спасти ее невозможно, и весь народ, все, кто ни есть в садах, жалея, успокаивая и подбадривая, несут ее в село…
— Слоян возвращается из Стамбула домой — с богатыми покупками и подарками — повидаться с родными, возвращается как паша, как победитель, как бесценная награда своим деду и бабушке, друзьям, родным, детям, полям и огородам всего Армтана и жене — жене: ведь ею и ее подругами по судьбе сложен тоскующий, зовущий айрен:
Возвращайся домой, мой владыка, Все оставь, возвращайся скорее домой. Не нужны мне подарки твои, мой владыка, Сам возвращайся скорее домой.
Мндзурские горы в Высокой Армении
И всего таких шедевров — 225 рассказов, 75 хроник, 26 родных сельских пейзажей, 12 сказок, из которых многие изданы в книгах, за что мы и выражаем свою глубокую признательность армянским поклонникам литературы города Константинополя.
В творчестве Мндзури нет признаков ни сегодняшней, ни тем более завтрашней жизни, но Мндзури — автор именно завтрашнего дня, автор будущего. И если завтра армянин, пусть даже один из сотни, за густой пеленой цивилизации и иноязычия захочет увидеть путь, пройденный его отцами, захочет обратиться к истокам и корням своим, там найдет он чистую солнечную поляну, залитую мирным светом поляну АкобаМндзури, и на той поляне — добрый, трудолюбивый, христианский по самой сути своей красивый народ, живущий под властью матриархата. И называемый совестью свет Господень постоянен там, доколе и властители и слуги этого мира — матери.
Все творчество Мндзури — прекрасный гимн Матери, будь она в образе тоненькой девчонки, одряхлевшей старушки или жены, истосковавшейся по мужниной любви. Глубокий старик, он навсегда остался ушедшим на заработки крестьянином, благодарным сыном и тоскующим мужем.

* * *
Из книги “ГОЛУБОЙ СВЕТ”
МОЕ СЕЛО
На вершине холма, у одинокого куста шиповника, растущего рядом с развалинами часовни, под палящим июльским солнцем сидит полевой сторож. Положив рядом длинную увесистую палку, привалившись спиной к камням, он внимательно следит за зеленеющими внизу хлебными полями.
У подножия холма лежит село. В верхнем его конце через обвалившуюся каменную ограду забрался в поле мул и не спеша пасется в ячмене. Межа, тени грецких орехов, хозяин поля, погонщик мула — все лежат и дремлют под палящим солнцем. “Эге-гей! — кричит сторож спящему погонщику — Мул в поле •залез, мул, прогони…, потравит! Слышишь, э-гей!”
Погонщик спит и не слышит надсадного крика; далеко за орешинами показывается маленькая точка — в село направляется какой-то путник.
На улице, ведущей к кладбищу, появляется теленок. Кругом ни души. Мелкими раздумчивыми шагами бредет он вон из села, мимо кладбища, где в густой сочной траве резвятся и прыгают козлята. Не обращая на траву никакого внимания, теленок проходит мимо кладбища; словно заранее все обдумав, заходит в первое пшеничное поле, переходит его, проходит во второе, останавливается посередине и начинает пастись. Пшеница такая высокая, что над колосьями видна одна только его голова.
-Э-гей!- кричит сверху сторож,- Чей теленок, кто его в поле пустил?
Ему никто не отвечает; теленок прикинулся глухим и пасется, изредка взматывая головой, спокойно и безмятежно.
Окруженное густыми садами, село внизу похоже на заросший деревьями остров, медленно выплывающий из изумрудного моря полей. На плоских кровлях, отливающих золотом провеянной мякины, виднеются одинокие фигурки людей. На одной две невестки, в одинаково повязанных белых платках, как в исповедальне стоя на коленях друг перед другом, сноровисто и молча лепят на зиму творожные лепешки. Молча берут из большого корыта по комку творога, молча сминают в шарик, затем слегка раскатывают, большим пальцем выдавливают в серединке ямку, так же молча кладут на солнце — сушиться.
Как из ямы, из отверстия в соседней кровле сначала появляется повязанная таким же белым платком женская голова, затем с корытцем в руках на крышу выходит и сама женщина. Ставит корытце на солнцепеке, смотрит, приставив ладонь козырьком ко лбу, на соседнее село, чуть заметное на горизонте по ту сторону посевов, спускается вниз, исчезает в доме.
Молодайка напекла лавашей на месяц вперед, вынесла их на крышу сушиться. Расстелила до самого карниза циновки из козьего волоса, разостлала на них теплые, пахнущие дымом лаваши; привлеченная хлебом стая ворон расселась на растущем у дома тополе, так и ест его глазами; самые нахальные то и дело слетают на крышу, держа на отлете свои длинные как рукоятка сковородки хвосты. “Jle… ле… ле… ле…” — чтобы отпугнуть их, кричит негромко женщина и взмахивает длинной хворостиной.
Собака, что взялась помочь своей хозяйке, и сейчас лежит рядом, положив голову на лапы, вскакивает с места, с лаем добегает до карниза; вспугнув ворон, взлаивает им вслед еще пару раз для острастки, и, осторожно обходя лаваши, возвращается на прежнее место. Ложится, с удовлетворением человека, хорошо исполняющего порученное дело, оглядывается на свою хозяйку, опять кладет голову на лапы и начинает дремать, краем глаза продолжая следить за воронами. Те прикинулись умницами, снова расселись на ветках; со стороны кажется, будто они дружно ругают кого-то из своих товарок и ничем больше неинтересуются. Но собаку обмануть трудно: отлично зная характер своих давних знакомок, она не верит их хриплой перебранке; вороны не верят ее дремоте, продолжают заговаривать зубы, и собака, которой уже давно надоело их карканье, окончательно решает поймать и затрепать нахалок — пусть только попробуют слететь на крышу!
На пустынной улице, ведущей к роднику и тяжело дышащей под полуденным солнцем, появляется старик-священник с теслом в руках, в голубом платье-энтари, вытертой меховой жилетке, черной феске. Он слышит откуда-то крики сторожа и, не подымая головы, бредет дальше.

В одном из домов, выходящих прямо на улицу, по которой только что прошел священник, настежь распахнута дверь. Стоя в прохладных сенях, две снохи — одна низенькая и полная, другая высокая, стройная, — подвесив за потолочную балку маслобойку — козий бурдюк, сбивают масло. Потная, с блестящим лицом толстуха что-то без умолку рассказывает подруге и смеется, а та — черноглазая, повязанная желтым в полоску платком — молча слушает. Обе сильными руками равномерно раскачивают маслобойку. Сметана в ней бьется с однообразным шумом; женщины стоят, наклонившись вперед; полные бедра толстухи беспокойны, бьются, как сметана в маслобойке, оттягивают платье. Распущенные платки сбились на затылках, по утомленным лицам течет пот, при каждом движении косы и полы льнут к бедрам высокой женщины, обнимают спину и полные бедра толстухи. Усталые женщины на минуту прекращают пахтанье; высокая становится на колени, распускает мягкое замаслившееся горло бурдюка, заглядывает внутрь. На поверхности сметаны плавают маленькие комочки масла, она пытается собрать их, сбить в ком, но из этого ничего не выходит — сметана слишком густа; женщина добавляет ковшом воды, затягивает горло маслобойки, и они опять начинают пахтать, стоя в прежних позах. Косы и полы их опять начинают волноваться, льнут к телам женщин; шум пахтанья заглушает их голоса, выливается в открытую дверь, ширится, наполняет всю улицу.
На пороге дома напротив сидят двое малышей — брат и сестра. Мать поставила перед ними большую миску танапура, накрошила в него хлеба, чтобы не сразу съели и не канючили еще, сунула подеревянной ложке и занялась хозяйством. Изорванные, в прорехах, без пуговиц платьица надеты прямо на голые тельца; голые пуза, полные щечки так почернели от грязи и солнца, что дети похожи на арапчат. По своему детскому разумению посчитав ложки ненужными и куда-то их закинув, они едят прямо руками. Девочка лезет в миску грязной ручонкой, и, набрав полужидкой кашицы, отправляет в рот. На обоих давно нет сухого места: животики, носы, щечки, даже черные глазенки выпачканы танапуром. Блестя глазками от удовольствия, они тычут друг в друга пальцами и заливаются веселым смехом. Потом мажут кашицей себе головы, долго смеются, глядя друг на друга; отсмеявшись, опять принимаются есть, проливая половину на землю. Женщины, сбивающие масло, видят это через улицу, но молчат; хлопочущая по хозяйству мать не знает, чем заняты ее дети, но довольна уже тем, что не крутятся под ногами и не мешают работать.

— Э-гей!- внезапно заявляет со своего холма сторож голосом, который вдруг глохнет, пропадает, как пропадает иногда в горах эхо.
На склоне холма кирпично-красный от загара мужчина поливает свою пшеницу. В одной нижней рубахе и подштанниках, подвернутых, как у давильщиков винограда, выше колен, он стоит на меже с заступом на плече и смотрит на ручей, который извиваясь выбегает из-за далеких белых, словно мукою посыпанных холмов, тянущихся по горизонту, и, пробегая ракитник, мирно и широко растекается по полю. Пшеница пошла в трубку, выкинула острый колос и теперь ждет воды, чтобы налить его зерном. Вода журчит, растекаясь между стеблями, стремительно впитывается в иссохшую, истрескавшуюся землю. Напоив борозду, мужчина снимает с плеча заступ, перекрывает рукав и пускает воду по соседней борозде. Тяжелым заступом он легко и бережно трогает землю, следит, чтобы ни один колосок не остался без воды, чтобы вода не перебежала межу, не растеклась по соседнему полю. Вода в рукаве вдруг начинает быстро убывать, течет у ног поливальщика тоненькой струйкой, хотя ручей наверху и полноводен по-прежнему. Озадаченный крестьянин внимательно осматривает русло; не найдя видимой причины,начинает, прощупывая дно рукава босыми ногами, медленно двигаться вверх по течению. Все оказывается просто: на дне русла вода размыла кротовий ход и теперь стремительно вливается туда, чтобы выбить на поверхность уже у самой подошвы холма. Он подгребает заступом землю, плотно забивает ею ход, трамбует; рукав опять наполняется водой, и крестьянин, с бисером пота на лице и мохнатой груди, радуется как ребенок.
На берегу ручья, чуть ниже полей, пристроилась мельница- хлопотунья. На ее маленькой квадратной крыше, желтой от мякины, лежат лестница, тесло и пять больших черных гвоздей. Запруда, прилепившаяся своими замшелыми бревнами к скале, полна до краев. Не в силах найти между бревнами ни трещинки ни щели вода пенится, закручивается воронками, и, успокоившись, тонким ровным слоем переливается через верхнее бревно. Изнутри, заглушая пение жерновов, доносится торопливый стук коника. Хозяин мелева, деревянной лопатой ссыпающий из ларя муку в большие волосяные мешки, кажется, совсем оглох от этого шума, а мельник, растопивший тонир и пекущий круглые лепешки, радуется, слушая привычный слаженный шум мельницы. Время от времени то один, то другой выходят во двор: отдышаться и перегнать на новое место ослов, пасущихся на привязи у ручья.
Над запрудой в тени скалы сидят несколько стариков; убаюканные однозвучным шумом жерновов, стуком коника, криками сторожа, они с улыбкой смотрят на несущуюся сквозь решетку в трубу воду, на воронки и крупные хлопья пены.
На широкой меже, заросшей словно кипящей под солнцем травой, лежит плоский камень, на котором разложены стебли лопухов, нечищенные, с налипшей на корни землей побеги пустошели, козлобородника, дикого лука. Вокруг камня уселись в кружок маленькие девочки с пострескавшимися от жары босыми пятками; они едят зелень, беззаботно смеясь чему-то. Губы их позеленели от травы; в больших телячьих глазах покорность и бездумие.
Вышедший из себя сторож в третий раз кричит погонщику с вершины скукожившегося под солнцем холма; кричит зло, с угрозой:
-Э-ге-гей! Ты что, сволочь, оглох? Мул поле истоптал, мул! Смотри, спущусь, так…!
Погонщик в белой рубахе наконец просыпается, торопливо выводит мула из поля, забирается в седло и уезжает.
* * *
Идущий в село путник — чернобородый, в табачной одежде, с палкой в руке — уже подходит к крайним домам.
Кончает свою работу и поливальщик; политое им поле ярким темно-зеленым пятном выделяется среди остальных, еще не политых.
На кровлях уже никого нет. Сушившая лаваши женщина собрала хлеб и снесла в дом. Вороны все слетели на крышу и вместе с собакой мирно расхаживают по ней, подбирают оставшиеся крошки.
Невестки кончили сбивать масло, сняли с крюка маслобойку, толстуха стала на колени, и, зажав между ног бурдюк, старательно мнет его, собирая масло в ком. Дети по-прежнему сидят на солнцепеке перед дверью; девочка надела себе на голову пустую миску и смешно таращит глаза, хочет напугать братика, но тот ничуть не боится, набирает руками пыль и, весело смеясь, бросает ее в сестру.
Натоку оживленно копошатся мальчишки. Притащив откуда- то убитую взрослыми змею, они вытянули ее во всю длину и теперь с интересом рассматривают; несколько их приятелей шныряют по току, собирают бодули, чтобы ее сжечь.
Чуть ниже запруды, в которой поят скот, четверо женщин стирают белье. Стоя на плоских камнях и подобрав полы энтари так, что видны пестрые шаровары, они говорят все разом, не слушая друг друга, и валки, равномерно поднимаясь и опускаясь над их склоненными головами, звучно хлопают по белью.
В садах, желтых от цветущих одуванчиков, стоит тишина. На узкой улице, заросшей пшатом, разыгрывается сельская сценка: юноша пытается задержать свою невесту; девушка, в красномплатье, с золотым монисто на шее, ошеломленная внезапностью встречи, вскрикивает и убегает и жених долго глядит ей вслед.
На берегу ручья, бегущего вдоль дороги к садам, у шалаша сидит молодая женщина, совсем еще девочка, черноглазая и чернобровая, и, расстегнув ворот платья, кормит грудью ребенка. Из села к ручью за водой идут две женщины с кувшинами на плече.
Воздух неподвижен. Из садов вылетает трясогузка с гусеницей в клюве; пролетев, садится далеко в поле, у своего гнезда, оставляет там гусеницу, и, порхая, летит над травой к ракитнику, в сторону белых, словно мукою посыпанных холмов, на одном из которых виднеются развалины часовни.
-Вот загоню теленка, ищите его потом, — громко ругается обозлившийся сторож и, подобрав свою дубинку, решительными шагами спускается с холма.
А теленок, весь такой рыжий, будто его выкрасили хной, никак не может взять в толк, понять, почему эти люди запрещают пастись там, где ему хочется, взмагывая головой, крепкими зубами вырывает из земли и не спеша пережевывает вкусную пшеничную солому, стоя посреди поля так уверенно и беззаботно, словно стоит в хлеву, перед своими яслями; и только голова его еле заметной темной точкой виднеется над колосьями, в зелени поля.
Мндзури Акоб. Наш храм / А. Мндзури — Ер.: Антарес, 2012. 160 с.
В сборник рассказов одного из выдающихся армянских новеллистов XX века вошли произведения из трех его сборников, изданных в разное время в Стамбуле. На русском языке автор отдельной книгой представляется впервые.
Фото: panoramio.com